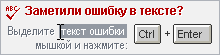"Идея фикс - ставить русские оперы"
Он уникум. Во-первых, потому что един в трех ипостасях – оперного режиссера, режиссера драмы, сценографа. Во-вторых, потому что не припомнить, чтобы человек поставил чуть не первую оперу – и оказался у всех на устах, поставил следующую – и попал в лауреаты национальной премии "Золотая Маска". В-третьих, потому что ухитрился при своих немереных талантах пропадать в безвестности до тридцати лет (что, впрочем, объясняется просто: после окончания ГИТИСа в 1993 году он уехал работать в Литву, потом колесил по российской провинции). Его внешний облик обещает бунт и эпатаж, а в спектаклях – мир, глубина и откровения, переворачивающие душу. Так было в "Молодом Давиде" Новосибирской оперы (1999), так было в "Китеже" Мариинского театра (2001). После этих двух работ имя Дмитрия ЧЕРНЯКОВА и слово "событие" стали синонимами… Сегодня на Новой сцене Большого театра он представляет свою новую постановку – "Похождения повесы" Стравинского.
– В один прекрасный день, Митя, вам позвонили из Большого театра и предложили поставить раритетную оперу Евстигнея Фомина "Американцы". Вы отказались. "Тогда что бы вы хотели поставить?" – спросили вас. Вы подумали-подумали и назвали оперу "Похождения повесы". Почему?
– Потому что она, хоть и написана в Америке, на английском языке и по своей структуре абсолютно не русская, – это сочинение русского композитора. А у меня навязчивая идея, заключающаяся в том, что я должен ставить русские оперы. Мне это интересно, мне этого хочется. Во-вторых, "Повеса" подходит для Новой сцены, потому что он небольшого формата. В-третьих, это свежее оперное название, российским театром практически не востребованное. Исключение – старый спектакль Покровского в Камерном музыкальном театре. В-четвертых, ХХ век был представлен в Большом театре всего несколькими названиями. А век-то уже весь прожит, и там осталась масса хороших оперных сочинений.
В-пятых, я знаю, что эта опера "мне идет". Другое дело, что я не желал поставить "Повесу" так страстно, как желал поставить "Китеж" в Мариинском. Но я эту оперу хорошо знал и любил, то есть между нами уже были какие-то чувственные связи.
– Знал, любил, значит, и видел не один раз. Трудно избавляться от чужих "картинок" и концепций?
– Не могу сказать, что я видел безупречные, убедительные для себя работы – такие, как, например, прошлогодняя "Ариадна на Наксосе" в Зальцбурге. Вот эту оперу – не знаю, смогу ли когда-нибудь поставить, потому что я в плену этого спектакля, он меня убедил. Больше таких постановок я не видел.
– Вы и в "Повесе" выступите в двух лицах – режиссера и художника. Судя по тому, что в вашей биографии фигурируют курсы при Архитектурном институте, на заре туманной юности перед вами все-таки стояла дилемма – или в художники, или в режиссеры. Почему дело закончилось ГИТИСом?
– Не знаю… Я всегда режиссуру и сценографию не очень-то различал. Я занимаюсь неким конструированием спектакля, и его художественное пространство – цвет, форма, фактура – тоже часть режиссуры.
– По мне, вы очень интересный художник. Но ведь когда-то нужно было завоевать это право – без специального образования оформлять спектакли. Как это было?
– Давным-давно, ставя спектакль в одном областном театре, я столкнулся с такой сценографической халтурой, что испытал настоящее потрясение. Я тогда сказал: пусть на афише стоит имя этого художника, пусть он получит деньги, я сделаю все сам. Но вообще свои опыты я бы не называл сценографией, а себя – художником. Бывает, что у кого-то сценографический образ достаточно исчерпывающ – он прекрасен, самодостаточен, убедителен. Я знаю, что у меня не так. У меня – все как бы разрозненные, отдельно не существующие части целого. А целое возникает только с появлением на сцене артиста.
– "Артист всегда прав", – сказал однажды Борис Александрович Покровский, и эта фраза стала крылатой. Вы с ним согласны?
– Первый раз ее слышу. Когда я с этим столкнусь, может быть, смогу как-то прокомментировать… Но прав, наверное, все-таки композитор.
– А вы уверены, что угадываете его правду, а не навязываете ему свою?
– Композиторский текст – не шифровка, у композитора все ясно. Другое дело, что в какие-то моменты сценический текст может вступать с музыкальным в сложные отношения, в том числе такие, которые будут по отношению к музыке казаться разрушительными – но только на первый, поверхностный, взгляд. Например, в чувственном смысле я никогда не понимал "Фальстафа". Мне не хватало серьезности и глубины высказывания 80-летнего Верди. Мне казалось, что он не мог написать просто веселенькую историю. Но однажды я посмотрел в Граце спектакль Конвичного. Это был своевольный режиссерский театр, даже насильственный по отношению к произведению. Но благодаря этому спектаклю я понял, про что писал Верди.
– Значит, все-таки у композитора не все бывает ясно… А у вас нет ощущения, что публика подустала от режиссерского театра и мечтает вернуться к тому, что было 50, 100, 400 лет назад, – к примату музыки в оперном спектакле?
– Наоборот, мне кажется, сейчас недостаток режиссерского, как вы его называете, театра. Я говорю об удачных его проявлениях – топ-спектаклях. У нас нехватка этого. А была бы "хватка", вопрос об усталости не стоял. От хорошего не устают, к хорошему тянутся. Но на самом деле я за то, чтобы существовали разные театры – даже старая репрезентативная опера. Как постановщику она мне чужда, но как зритель я вполне могу прийти на такой спектакль и получить большое удовольствие. Во мне нет эстетского снобизма.
– Верно, ваш конек – многослойные оперы с подтекстами и загадками. А позвони вам, к примеру, Гергиев и предложи поставить какую-нибудь "Лючию ди Ламмермур" – откажетесь, не соблазнитесь?
– Думаю, люди, которые меня приглашают, понимают, кого они приглашают. Поэтому такое предположение может быть только гипотетическим. Но вообще мне, наверное, было бы интересно поиграть в старую оперу. Только я бы это сделал всерьез, не высмеивая ее как художественную нелепость, потому что она таковой не является. Я бы вынул ее из современного контекста и режиссерского театра. Я бы поставил пышный спектакль, выделывая все очень подробно, ювелирно, наслаждаясь как некоей эстетической игрой. Да, пожалуй, я бы с удовольствием за это взялся.
– А почему в начале своей карьеры… вам, кстати, нравится это слово?
– Нравится.
– …вы отправились в Прибалтику ставить драму?
– Не знаю.
– У вас это слово часто фигурирует.
– Мне трудно анализировать и себя, и свою жизнь. Я никогда ничего не планирую. Я отдаюсь на волю случая. Мне нравится слово "карьера", потому что я хочу, чтобы моя жизнь была карьерой. А она в карьеру не складывается. Карьеру надо делать, а у меня все случай, стихия. Я не аналитическим путем справляюсь с жизнью, я постигаю ее чувственно. Даже для того, чтобы придумать в спектакле сцену, сюжет, ход, мне нужно это пережить – как впечатление, как стресс, и только потом, уже пережив, я пытаюсь заново это сконструировать.
– Митя, а вам не надоело быть свободным художником? Не мечтаете ли вы о своем театре?
– Сейчас мне это не нужно. Мне надо мускулами обзавестись, чтобы я мог заняться строительством театра (не здание, конечно, имеется в виду). А пока моих сил хватает только на строительство спектакля.
Лариса Долгачева, "Культура"