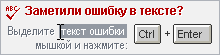Доктор наук Владимир Асмолов: "Мифы и легенды нам не нужны!"
Писатель и научный журналист продолжает серию материалов, рассказывающих о нашей науке и ее творцах под рубрикой "Чаепития в Академии".

Сегодня речь пойдет об атомной энергетике.
34 года назад взорвался 4-й блок Чернобыльской АЭС.
Сегодня в Белоруссии готовится к пуску первая атомная станция.
Как ни странно, но эти события связаны между собой не только тем, что в строительстве БелАЭС участвуют многие из тех, кто ликвидировал аварию в Чернобыле, но и когорта ученых, которые после этой трагедии сделала все, чтобы ничего подобного не повторилось. Именно они создавали новую систему безопасности атомной энергетики. Первым среди таких ученых я называю Владимира Асмолова, с которым много лет меня связывают добрые товарищеские отношения.
"Избранники, занимающиеся наукой, должны смотреть на знание, как на доверенное им сокровище, составляющее собственность своего народа". К этим словам К. А. Тимирязева стоит лишь добавить "… и нести ответственность".
Владимир Асмолов умеет брать ответственность на себя, что при его опыте, знаниях и умении решать самые сложные проблемы, безусловно, делает его весьма заметной фигурой в современном научном мире.
Сужу это по собственному опыту.
Потребовалась мне самая квалифицированная консультация по судьбе атомной энергетики России, я тут же обратился к Асмолову.
Начал работать над фильмом, связанным с Чернобыльской трагедией, сразу же понял, что без Асмолова он будет неполноценным.
И так далее, и тому подобное.
Доктор физико-математических наук Владимир Григорьевич Асмолов много лет координирует работы по безопасности ядерной энергетики. Раньше — Курчатовского научного центра, а потом в качестве Первого заместителя и советника Генерального директора концерна "Росэнергоатом". Концентрация всех проблем безопасности атомной энергетики в одних руках — это не только потребность времени, но и одновременно возможности вполне конкретного человека. Не будь Асмолова, подобное осуществить в России было бы затруднительно.
Среди атомщиков России, а теперь, пожалуй, и мира, Асмолов пользуется славой ученого, который "любит взрывать реакторы". Такое определение дал один из друзей ученого, и, как это случается в науке, шутка постепенно подзабылась, а образ остался. И теперь, когда возникает какая-нибудь "нештатная ситуация" (слово "авария" атомщики после Чернобыля невзлюбили!), то сразу же следует обращение к Асмолову как самому авторитетному специалисту.
Эта беседа с Владимиром Григорьевичем сложилась из ряда встреч с ним, которые были и в Курчатовском центре, и в Росэнергоатоме и на Волгодонской и других АЭС, где нам доводилось вместе бывать. Разговор в первую очередь касался проблем безопасности, но не только их — ведь мы знакомы с Асмоловым многие годы, а сблизились после аварии на Чернобыльской АЭС, когда нам довелось поработать вместе.
Разговор с ученым я начал так:
— Если бы сейчас передо мной сидел Ньютон, я спросил бы его: "Какой у вас самый счастливый день?", и, возможно, он ответил бы, что тот, когда он сидел под деревом и яблоко стукнуло ему по лбу… Наверное, на такой же вопрос Эйнштейн сказал бы о скорости света… А как бы ответили вы?
— Касаться мифов и легенд не будем. Скажу о вполне реальных днях, которые я считаю "счастливыми" и "главными" в своей жизни.
— Их было много?
— По крайней мере, "несколько". И я их прекрасно помню!
— В таком случае, последуем рекомендации классика, который воскликнул: "Так начнем же!". Какой день вспоминается сразу?
— Это дни, когда я достигал цели, к которой стремился всю жизнь.
— Звучит необычно…
— Первое событие — это середина 70-х. Я — экспериментатор на огромном стенде. Мне доверили руководство сменой. Мы работали по "кризисам теплообмена", и надо было определить тот самый предел для активной зоны, за которым начинаются кризисные явления.
— Аварийная ситуация на реакторе?
— Да, всего лишь доли секунды, и активная зона выходит из-под контроля. Таким образом, надо было определить границу, до которой реактор работает нормально. И вот мне доверили эксперимент. За смену удалось снять 80 "кризисных" точек, причем аварийная защита не срабатывала, а сборка не сгорала.
— Эксперимент, как говорится, "на грани фола"?
— Сидя за пультом этого гигантского стенда, я чувствовал себя пианистом, который играет какую-то возвышенную и прекрасную мелодию.
— Очевидно, не зря науку сравнивают с искусством…
— Для экспериментатора-физика такое сравнение не кажется чем-то надуманным. По крайней мере, тогда впервые, ощущал свое могущество. Я имею в виду и науку, и человека в ней.
— А другой случай?
— Чернобыль.
— И как он проявился?
— Два ощущения. Первое, когда я узнал об аварии. Это был очень тяжелый месяц в Институте. Анатолий Петрович Александров поручил мне проект "саркофага". Уже профессионал, уже не молод — 40 лет исполнилось, уже позади опыт сложнейших экспериментальных работ, уже, казалось бы, многое умею… И тут сложнейшее задание и полная ответственность за успех дела — ведь иного быть не могло… Понятно, что я испытывал тогда… К тому же случилось так, что 25 апреля мой сын уехал в Киев. У нас семья спортивная. Мы с женой баскетболисты, а сын — волейболист. Ему было 14 лет, и он играл в сборной юношеской команде России. Утром 26-го апреля все мы пришли в кабинет Александрова. Так всегда бывало, когда случались и радостные события и печальные.
Получили сообщение, что реактор разрушен. И тут появились всевозможные предположения. Реакторы не должны разрушаться, они не взрываются, а тут такое… В общем, начались сумасшедшие дни… Вечером в воскресенье мы увидели пленку, на которой был "вырванный зуб" и "дупло"… Все что осталось от реактора…Это был удар, который было сложно пережить, но иного нам не оставалось…
— А что с сыном?
— Я — исследователь…
— То есть ученый…
— Мои учителя еще в молодости объяснили мне, что ученым может быть только кот, а потому я использую более точное слово — "исследователь". 3-го мая после окончания своего волейбольного первенства он вернулся в Москву. Я встретил ребят на Киевском вокзале. Проинструктировал их, объяснил, что надо делать.
Дома раздел сына в предбаннике, а его майку отправил в лабораторию. Мне важно было знать состав нуклидов уже не в Чернобыле, а в Киеве. Получили еще одно подтверждение того, что при аварии был выход топлива… А по его кроссовкам еще года два я проверял свой радиометр: работает или нет…
— А потом и сами туда?
— Да, потом первый прилет в Чернобыль. Это было уникальное событие. Приземлились мы недалеко от станции.
Я вышел из вертолета и сразу же ощутил воздух… Он был "живой", и я его "увидел"! Потом уже привык ко всему, и не замечал ни воздуха, ни всего остального — все поглощала работа. Но в первый день ощущение было странное, я почувствовал себя героем "Марсианских хроник" Бредбери.
По крайней мере, чувство было странное, необычное. Я понял, что все вокруг натворили мы, что это рукотворная трагедия. Ощущение и осознание суперответственности за все, что делаешь, пришло именно в Чернобыле. И пришло оно уже не к совсем молодому человеку, у которого в прошлом пережито многое. В общем, в первый чернобыльский день я понял, что придется пересмотреть многое в своей жизни. Так и случилось.
— Когда вы впервые оказались в Чернобыле?
— В начале июня 86-го. А с первого дня работали в Институте. В Чернобыль улетел Валерий Алексеевич Легасов, и мы "обеспечивали" его всей необходимой информацией. Оттуда поступали запросы, подчас весьма необычные, и мы находили нужные ответы и знающих людей. Причем в нашем распоряжении фактически была вся государственная машина, чиновники любых рангов, все службы.
Никаких специальных указаний на сей счет не существовало, но стоило лишь упомянуть, что это необходимо для штаба в Чернобыле, что это необходимо Легасову или Александрову, — и все делалось моментально. Работали круглые сутки, и это было нормально для того времени.
В июне Анатолий Петрович Александров назначил меня ответственным за саркофаг, и теперь уже я работал в Чернобыле практически без перерывов…
Но если завершать историю о самых памятных днях, то я должен обязательно упомянуть еще об одном событии, которое я запомнил на всю жизнь. Это было в 88-м году.
Приехала телевизионная группа, чтобы взять интервью у академика Александрова. Почему-то он позвал меня, и я присутствовал при записи. Журналистка спросила: "Анатолий Петрович, что для вас Чернобыль?" И этот очень мудрый и великий человек ответил просто: "Это трагедия всей моей жизни". И она вдруг говорит ему, мол, вы легко рассуждаете… Он промолчал, а я вдруг почувствовал всю глубину его поражения, осознание того, что произошло. Девушка, конечно же, не поняла этого — она выполняла определенный политический заказ. Александров все видел, но не откровенным до конца он уже быть не мог. А я ощутил еще раз величину собственной ответственности. Это предотвращение аварии, управление ею.
Но для этого нужно было получить всю базу данных, которые есть в мире. Однако информацией никто с вами делиться не будет, если вы не интересны для партнеров. А потому мы предложили провести самые критические эксперименты у нас, те, которые у себя они сделать не могли. Это эксперименты с расплавлением активной зоны, удержанием "гремучей смеси", температура которой свыше двух тысяч градусов, и так далее. Я был уже заместителем директора института по науке, но оставался по-прежнему оператором на стенде.
— Не доверяли другим?
— Нет, просто всегда помнил об особой ответственности, а потому брал ее на себя. Всего было сделано пять больших экспериментов. Уже в первом мы смогли не только расплавить активную зону, но и дойти до того момента, когда лава вышла на корпус реактора, и мы смогли остановить этот процесс, доказав, что если знаешь о том, как развивается авария, то можешь управлять ею. Это чрезвычайно важно не только для науки, но и психологически.
— Почему?
— Атомную энергетику боятся. В частности, потому, что убеждены, что реактором нельзя управлять, мол, он может выйти из-под контроля. Если же в любой самой критической ситуации, ты способен предотвратить самое страшное, то уверенность рождает спокойствие.
— И на чем это основывается?
— Сразу оговорюсь: экономическую составляющую, связанную с потерей блока, не учитывается. Сразу после Чернобыля наша группа сформулировала основные принципы безопасности.
Должны быть физические барьеры, и должны быть системы управления этими барьерами.
Подход этот был назван: "глубоко эшелонированная защита". Нам важно, что все, что случается во время аварии, оставалось внутри, не выходило за пределы блока.
Безопасность заключается не в том, что авария полностью исключается — это невозможно даже теоретически, а в том, что она не выходит за пределы блока при любой ситуации. Чувствуете разницу?
— Конечно. Это совершенно иной принцип безопасности, чем тот, о котором твердили ваши коллеги много десятилетий! Теперь вы признаете, что реактор взорваться может, но ученые уже научились контролировать ход аварии, а, следовательно, катастрофы не произойдет?
— Эти пять экспериментов начались в 1996 году, то есть через десять лет после Чернобыля. Однако и до этого мы пытались кое-что сделать. В частности, в Пахре изучали влияние лавы на бетон, пытались моделировать отдельные процессы и ситуации, — в общем, "наверстывали упущенное".
— Что вы имеете в виду?
— Проводили те эксперименты, которые надо было сделать раньше, задолго до Чернобыля — на первом этапе становления атомной энергетики.
Однако традиционное русское "авось", помноженное на поверхностное знание ряда физических процессов, — и стали одной из причин катастрофы.
— С чем можно сравнить такое отношение?
— Это попытка управлять автомобилем, не зная правил дорожного движения. Кто-то из моих друзей-физиков придумал такое выражение: "На реакторе в Чернобыле педаль газа была совмещена с тормозом", то есть в конкретной ситуации оператор не знал, тормозит он или ускоряется.
— И все-таки, почему те эксперименты, которые были проведены после Чернобыля, не были осуществлены до него? Пожалуй, вы один из немногих, кто обязан знать ответ на этот вопрос…
- Вопрос абсолютно корректный, но ответа на него нет… Для нас тревожным сигналом стало то, что случилось в Америке.
К счастью, там весь расплав остался в реакторе. И мы поняли — без знаний тяжелых, запроектных аварий атомная энергетика развиваться не имеет права.
Мы представили в министерство большую программу работ. Естественно, денег требовалось очень много, а потому мы получили уникальный ответ: "При капитализме все делается ради выгоды и реакторы там ненадежные, а наши — очень хорошие!" Было направлено еще одно письмо, авторы его — наши специалисты и института Доллежаля. В письме подробно описана будущая чернобыльская авария. Ответ пришел быстро, в нем говорилось, что подобная авария практически невозможна, но тем не менее исследования целесообразно провести. На них деньги будут выделены в 1987 году.
— Чуть-чуть не успели?
— Честно говоря, мы не представляли, что с реактором может произойти такое — о катастрофических последствиях не предполагали, а потому не были настойчивы. Так что своей вины не снимаем. Безусловно, надо было бить во все колокола… Кстати, 800 часов летом 86-года в Монте-Карло потребовалось специалистам, чтобы воспроизвести условия, при которых случилась авария.
Я привожу эти данные, чтобы стало понятным: в те времена, не имея представления о масштабах аварии, очень трудно было ее смоделировать. Психологически понятно, когда реактор опасен на максимальной мощности, кажется, что только в этом случае он может взорваться. На самом же деле, реактор входит в аварийный режим на минимальной мощности, практически на грани остановки. Естественно, это не укладывается в голове.
— Укус комара подчас несет смерть?
— Но в это так не хочется верить!
— Неужели не было предвестников аварии?! Насколько я знаю, необычайно сложная ситуация однажды сложилась на Ленинградской АЭС. Говорят, что там в середине 70-х случился мини-Чернобыль?
— Это не так. Там ситуация совсем иная. Впрочем, "неприятности" всегда следует ждать, когда военная техника приспосабливается для гражданских нужд. Была разработана большая программа по атомной энергетике, но промышленность не могла обеспечить корпусные реакторы — тогда ни Атоммаша не было, не хватало и мощности Ижорских заводов. А потому было решено использовать РБМК. Они неплохо зарекомендовали себя при производстве плутония, и это создало иллюзию, что и в мирной энергетике они будут работать неплохо. Однако эти реакторы требуют жесткой, поистине военной дисциплины и тщательной, напряженной работы операторов. Тут и подготовка персонала особая, и контроль весьма серьезный… А функции у гражданского оператора совсем иные. На 4-м блоке работал прекрасный инженер, скорее исследователь, чем просто оператор. Когда реактор оказался в "йодной яме", оператор мастерски вытащил его, стабилизировал процессы, а потом, к сожалению, начал эксперимент…
— На "Маяке" в конце 50-х годов едва не произошел "первый Чернобыль". Мне рассказывал об этом оператор, потом он стал директором комбината. Чудом удалось остановить развитие аварии, чудом… Вы знали об этом случае?
— Нет. О том, что происходило на боевых реакторах, нам неизвестно. Это другой мир.
— Вы не жалеете, что попали в него?
— Вы имеете в виду физику? Конечно, нет. Как ни банально это звучит, но сыграл свою роль фильм "Девять дней одного года". Я родился в гуманитарной семье, и отец мечтал, чтобы кто-то стал "приличным человеком". В диалоге "лириков" и "физиков" он был на стороне вторых, хотя сам принадлежал к первым. Ну, а для нашего поколения герои фильма стали кумирами. Я мечтал работать в Курчатовском институте, и был распределен именно сюда. И уже никуда не уходил, хотя пришлось недавно побывать и в заместителях министра, и секретарем парткома в начале 80-х. Но научную работу я не оставлял ни на минуту, и без Курчатовского института свою жизнь просто не мыслю.
— Вернемся к Чернобылю. Чем особенно памятно то время?
— Там много было необычного. Если бы такая трагедия случилась на пять-десять лет позже, то масштабы ее были бы во много раз больше.
В 86-м действовала та система, которая называлась "Советский Союз". Централизованное руководство лучше всего приспособлено к экстремальным ситуациям. Авария в Чернобыле показала, насколько велико было братство людей, которые приезжали из разных уголков страны.
Все остро воспринимали случившееся, болели за общее дело. Человек, прошедший Чернобыль, изменился. Он был один "до", и стал другим "после". Не только я, но и все остальные. Это был высший урок нравственности, и большинство с честью выдерживало испытания. И примеров тому не счесть…
— Приведите хотя бы один?
— То же награждение… Отказались от орденов все атомщики. Мы решили, что нельзя награждать, коли уж виноваты…
— Я считал, что решили не награждать "наверху", а потому столь нелепо выглядели Указы, в которых не было тех людей, которые находились в эпицентре катастрофы…
- Нет, это решение было нашим. "Наверху" его просто поддержали. Но не награждать они не могли, а потому и случались казусы… Впрочем, спустя 10 лет вновь вернулись к наградам, и свой орден за Чернобыль я все-таки получил… В Чернобыле помню хорошо "посиделки". Двенадцать часов проработали на блоке, а потом собирались вместе, чтобы обсудить минувший день и наметить планы на будущий… Мы ждали этого часа обмена мнениями, готовились к нему, чтобы дать и узнать что-то новое…
— Вы были научным руководителем проекта "саркофага"?
— Создавал проект и руководил работами В. А. Курносов, а я курировал его от нашего института.
— Я помню, как проект "саркофага" расстелили на полу, и по нему ползали (в прямом смысле этого слова) Александров, Легасов и вы…
— Я тоже помню этот момент…
— Тогда говорили о том, что его нужно построить к первому января 1987 года. Эта дата казалась мне нереальной. А вам?
— Об этом просто не думали. "Надо" — значит, надо! В "саркофаге" была какая-то притягательность, даже красота. Разве не так?
— Пожалуй…
— Исходно мы понимали, что в рамках разрушенного здания, с разрушенными опорами, нельзя построить долговременное сооружение. Однако закрыть реактор обязательно нужно. Мы понимали, что психологический эффект от этого будет огромный.
Кстати, смотреть на реактор было просто невозможно — это был очень "больной зуб", и его надо было обязательно закрыть.
Проектом там предусмотрена вентиляция, различные устройства. Но честно признаюсь, я запретил их включать — нет в том необходимости. Выбросов из "саркофага" не было, хотя там щели и есть. Но такой цели — делать герметичное сооружение — не ставилось. Минувшие годы показали, что все расчеты оправдались. Провели исследования внутри "саркофага", доказали, что критической массы образоваться не может, значит, и цепной реакции не будет.
— "Саркофаг" сделан за полгода…
— Даже меньше…
— Если бы такая задача стояла сегодня, "саркофаг" можно было бы построить?
— Категорически — нет!
— Почему?
— Причин много… Назову одну. Человек приходил в санпропускник и оставлял там дозиметр, чтобы показать начальству, мол, норма не превышена. "Свои" дозиметры прятали, никому не показывали — просто надо было знать, сколько ты в реальности получил… Таких людей всегда найти трудно, а сегодня тем более. Материальная мотивация? Нет, это не проходит. Деньги в Чернобыле были не на первом месте, о них чаще всего даже не думали. Вот над "сухим законом" подшучивали. И всегда после оперативки свои сто грамм выпивали! И как ни странно, у тех, кто "принимал сто грамм", замечаний от медиков было меньше.
— Я придумал тогда, что мы "не выпиваем", а "дезактивируемся".
— Знаю… Этим выражением и мы пользовались…
— Какова дальнейшая судьба Чернобыльской АЭС и "саркофага"? Насколько я знаю, "Курчатовская экспедиция" была удалена из Чернобыля, местные власти посчитали, что они обойдутся без москвичей. Это раз. Во-вторых, было принято решение об остановке станции. Это правильно?
— На мой взгляд, пуск 1-го, 2-го и 3-го блоков ЧАЭС в 1986 году был грубейшей ошибкой. Потребовались сложнейшие и опасные работы
- по очистке крыши,
- по восстановлению машзалов,
- по дезактивации помещений.
Это делать было не нужно. Я был в Америке на станции Три Майл Айленд ("Трехмильный остров"), где произошла авария в 1979 году.
Американцы поступили разумно — "оставили АЭС в покое" на пять лет. Потом работать в радиоактивной зоне было намного проще и безопасней.
Подобным образом нам следовало поступить и на Чернобыльской АЭС. Конечно, усилия по сооружению "саркофага" были оправданы — укрывать поврежденный блок нужно было обязательно, но восстанавливать и пускать в работу остальные три энергоблока не следовало. Тем не менее, многие, в том числе и руководители страны, считали, что восстановить станцию необходимо.
Именно поэтому и была проведена грандиозная работа по пуску АЭС, был построен новый город. Не в очень удачном месте, но Славутич начал свою жизнь…
Раз уж пошли на это, приняли такое решение, то нужно было идти до конца — и ни в коем случае не делать новые ошибки. Но мы так привыкли наступать на грабли! И мы вновь сделали то же самое…
— Что вы имеете в виду?
— Вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Были остановлены хорошо работающие блоки, одни из лучших. Причем санитарная зона вокруг них не три километра, как обычно, а тридцать! Таким образом, ошибка была сделана на первом этапе аварии, когда вновь пустили АЭС, а затем, когда ее остановили.
— Не могу согласиться. На первом этапе, мне кажется, пуск блоков был своеобразной моральной победой, да и экономика Украины тогда нуждалась в энергии. Никто ведь не предполагал, что Союз развалится и промышленность рухнет…
— Думаю, что потеря Чернобыльской АЭС для экономики Украины весьма существенна. Это хорошо понимают специалисты и там и здесь. Однако политические решения подчас противоречат и логике, и здравому смыслу.
— Надеюсь, что такой "политики" у вас с атомщиками Украины нет?
— У нас нормальные, товарищеские отношения. "Волнообразное" развитие событий на Украине и в России не сказывается на них, и это отрадно.
— "Волнообразные события" — неплохой образ. По-моему, они коснулись и вас?
— Вы имеете в виду мой "поход" в заместители министра? Это произошло не спонтанно, а осмысленно. Я предлагал ряд идей по развитию атомной энергетики. И тогда министр А. Ю. Румянцев, с которым я работал много лет, сказал мне, что если уж выдвигаешь идеи, то реализовывай их сам. Я согласился. Кое-что полезное удалось сделать, а потом произошла реформа — Минатом превратился в Агентство, функции у ведомства изменились.
Я понял, что полезным на новой должности быть не смогу, потому и вернулся в Курчатовский центр. Ученые обычно не держатся за чиновничьи кресла, и в этом наше преимущество. Так что я не "бывший" заместитель министра Минатома, а "последний".
— Но поход вы чиновники не помешал принять новую должность?
— Да, я стал научным руководителем в Росэнергоатоме. Согласился не случайно, так как считаю эту организацию наиболее эффективной в нынешних условиях. Она не только эксплуатирует АЭС, но и заказывает новые энергоблоки. Следовательно, речь идет и об экономике, и о безопасности, то есть как раз тем, чем я занимаюсь.
— Если подводить итоги Чернобыля, что главное?
— Сегодня ситуация там в тысячи, десятки тысяч раз лучше, чем в 1986-м году. Изменилось многое.
— А что с "саркофагом"?
— Я вспоминаю слова Ефима Павловича Славского, который сразу же сказал, что 4-й блок надо превратить в бетонный куб. То есть речь идет о проекте "Монолит", который предложен теми же, кто создавал "саркофаг".
Владимир Александрович Курносов доказывал, что это наилучшее решение, а его опыту и знаниям следует доверять — ведь именно он принимал участие в ликвидации всех аварий и катастроф, которые, к сожалению, случались у нас.
— Но ведь к его мнению не прислушались?!
— Споры шли серьезные, и я, в частности, тогда утверждал, что заливать бетоном 4-й блок преждевременно. Шли очень интересные и уникальные исследования. Если бы тогда все было забетонировано, мы потеряли бы важную научную информацию. Коль уж беда случилась, то нужно было все тщательно изучить, чтобы не допустить повторения таких катастроф. И это сделано! Теперь же проект "Монолит" можно осуществлять…
— Мне кажется, что рано или поздно он будет принят и осуществлен?
— Это самый простой и надежный способ захоронения 4-го блока. Он будет полностью безопасен. Так считают многие наши специалисты, хотя, конечно, возможны и иные варианты. Лишь время покажет, кто именно прав.
- А может быть, бросить эту самую атомную энергетику и настроить по стране ветряки?!
— Можно сделать все: и ветряки понаставить, и солнечную энергетику развивать. Я не против, более того, считаю, что у таких направлений есть будущее. Однако у такой энергетике есть предел. Можно спорить о конкретных цифрах — десять или даже двадцать процентов, но это не существенно. Однако ветер дует, когда ему хочется, а солнце светит не всегда…
Ядерная энергетика существует для того, чтобы гарантированно обеспечивать нас энергией. Да, это сверхвысокая технология, и основное требование к ней — убежденность в том, что она всегда под контролем. Для того чтобы утверждать это, нужна огромная база знаний. Если ты знаешь, как управлять и контролировать такую технологию, то она становится благом, которым мы просто обязаны пользоваться.
На сегодняшний день урана-235 в урановой руде менее процента. Сегодняшняя атомная энергетика использует именно этот процент. Можно сказать, что мы топим котел спичками. Остальные 99 процентов урана-238 сегодня не используется. И происходит это потому, что мы работаем в "тепловом секторе".
- Если мы перейдем на "быстрый сектор", то начнем использовать уран-238, и тем самым переведем атомную энергетику в разряд возобновляемого топлива, то есть его будет в неограниченном количестве. Это первая задача. Если она не будет решена, то у атомной энергетики будущего нет.
- Вторая задача: это радиоактивные отходы. Используя "быстрый спектр", можно кардинально решать все вопросы по выжиганию отходов.
Итак, вывод такой: атомная энергетика есть, она должна быть крупномасштабной. Сегодня для нас, специалистов, "картинка будущего" ясна, мы для себя ее "нарисовали". Следовательно, есть реальная возможность двигаться к намеченным целям.
— Допустим, у вас появилась уникальная возможность сделать все, что пожелаете. То есть неограниченные материальные ресурсы и чистый лист бумаги. Какой вы сделали бы атомную энергетику России сегодня?
— Эти проблемы мы решаем, хотя, конечно же, речь об избытке материальных средств не идет. Хорошо бы, чтобы было вообще какое-то финансирование… Вообще-то, нам не нужны средства — необходимы гарантии государства под кредиты, и уже это позволит стабилизировать ситуацию. Уже есть серийный блок, который мы назвали Р-2006. В нем все "излишества" мы убираем, и в результате у нас есть блок, который по всем параметрам, включая экономические, гораздо лучше, чем те, что есть сегодня в России.
— Это новый блок?
— Я называю его "эволюционным". Это ВВЭР — 1100, который опробован, улучшен, а потому еще более надежен. В нем нет никаких "революционных" научных новаций, и это одно из его достоинств. Строительство таких блоков позволит нам набрать средства для следующего шага. А это — замыкание ядерного топливного цикла…
— Ликвидация ядерных отходов как таковых вообще?
— Конечно. Самая актуальная и "неприятная" проблема в атомной энергетике. Ее обязательно надо решать, если мы говорим о будущем… Плюс к этому: создание реактора на быстрых нейтронах, что позволит обеспечить атомную энергетику топливом. А затем, наверное, в середине ХХI века появление "реакторов — зажигателей"…
— Необычное название?
— Это реакторы, в которых будем сжигать ядерные отходы, всю ту "гадость", которая так волнует сегодня не только экологов, но и всю общественность.
Хочу заметить, что и у этой сложнейшей проблемы — загрязнение природной среды — тоже есть вполне обоснованное научное решение.
Чтобы обеспечить энергетическую безопасность России, нужен базовый проект. Это, безусловно, атомная энергетика. Иного просто не дано.
В последнее время я специально занимался нашей промышленностью, встречался с разными людьми — специалистами и предпринимателями. Мнение единое: обеспечьте государственный заказ, а все остальное, включая обучение персонала, промышленники готовы взять на себя. Сегодня даже в том состоянии, в котором находятся отрасли, можно сделать в год два энергоблока. Пока мы еще способны созидать.
Однако через несколько лет уже ничего сделать не удастся, так как специалистов не будет. Уйдут опыт и знание, "безвременье" в атомной энергетике, естественно, пагубно сказывается на ней.
— Как вы думаете, будет осуществляться такая программа?
— Хотелось бы… Я еще верю, что у нас есть нормальное правительство, разумное общество и есть желание жить по-человечески. Честно говоря, не хотелось бы сказать через несколько лет те же слова, что произнес после Чернобыля Анатолий Петрович Александров: "Это трагедия всей моей жизни!"