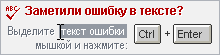Владимир Бонч-Бруевич был не только видным большевиком, но и крупным этнографом
Далеко не все ученые могут успешно сочетать научную карьеру с политической. Однако известному этнографу, писателю и партийному деятелю В.Д. Бонч-Бруевичу это удалось. Тем не менее, именно его исследования стали впоследствии причиной крушения его карьеры в Совнаркоме. Увы, научная честность в партии большевиков не очень-то приветствовалась.

Имя большевика, писателя и этнографа Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича людям, родившимся в СССР, прежде всего знакомо по серии "Мои первые книжки". Там издавались его рассказы о Ленине: "Ленин и дети", "Наш Ильич" и другие. Бывший какое-то время управляющим делами Совета народных комиссаров, Бонч-Бруевич называл сектантство "вековой тайной народной жизни" и в своих ранних статьях романтизировал хлыстовство.
Еще менее было известно советским читателям об интересе к сектантству Владимира Ильича Ленина, который неоднократно обсуждал эту тему с Владимиром Дмитриевичем. Бонч-Бруевич, ставший после знакомства с Лениным активным "искровцем", занимался изучением жизни и верований разнообразных сектантов, в том числе рассматривал возможность рассылать сектантам "Искру".
"С политической точки зрения хлысты потому заслуживают нашего внимания, что являются страстными ненавистниками всего, что исходит от правительства. — Я убежден, что при тактичном сближении революционеров с хлыстами мы можем приобрести там очень много друзей", — полагал личный друг Ленина.
"Согласно воспоминаниям Бонч-Бруевича, — пишет известный историк культуры Александр Эткинд. — Ленин интересовался возможностями повторения в России религиозного восстания, типа пуританской революции Кромвеля или анабаптистской революции Мюнцера".
"Вам бы следовало вникнуть в материалы о тайных группах революционного сектантства, действовавших во время событий Крестьянской войны в Германии. Есть ли что-либо подобное в нашем сектантстве?", — ориентировал Ленин своего сотрудника. Особенно "много общего" Ленин находил между русскими крестьянскими восстаниями и апокалиптическим царством в Мюнстере 1525 года, о котором он читал у Энгельса. "Сверьте опыт. Сделайте это ответственно и как можно более трезво. Нам нужны реальные политические выводы, пригодные для практики нашей борьбы", — просил будущий вождь мировой революции.
Просматривая рукописи русских сектантов из коллекции Бонч-Бруевича, Ленин был способен к довольно тонким замечаниям на исторические темы: "Это то, что в Англии было в XVII веке. Здесь, несомненно, есть влияние той литературы, вероятно, пришедшей к нам через издания Новикова".
Читайте также: Александр Ульянов, жертва собственного террора
На II съезде РСДРП в 1903 году Ленин зачитал доклад "Раскол и сектантство в России", который написал Бонч-Бруевич. Судя по докладу, сектанты напоминали им пламенных революционеров партии большевиков, спаянных железной дисциплиной: "Секта хлыстов — эта секта тайная, и потому об ее учении очень мало было напечатано в легальной прессе сколько-нибудь правдоподобных сведений. Эта секта наиболее организована, конспиративна и сильна".
Даже в самое напряженное время, когда времени не хватало даже на сон, Ленин в Кремле продолжал интересоваться изысканиями ученого о русских сектантах. "Владимир Ильич очень интересовался рукописями сектантов, которые я собирал… Особенно заинтересовали его философские сочинения. Как-то раз, когда он особенно углубился в их чтение,… сказал мне: "Как это интересно. Ведь это создал простой народ… Ведь вот наши приват-доценты написали пропасть бездарных статей о всякой философской дребедени… Вот эти рукописи, созданные самим народом, имеют во сто раз большее значение, чем все их писания", — вспоминал Бонч-Бруевич.
В его подходе к истории сектантских общин слышится отзвук столь хорошо знакомой ему внутрипартийной борьбы: "Дробление общин и их учений всегда дает право сделать заключение о длительном, предшествующем процессе возникновения, сплочения, развития, известного подъема и, наконец, самокритики, результатом которой, в связи с другими обстоятельствами, иногда бывает отпадение части приверженцев общины от своей прежней организации".В 1911 году Бонч-Бруевич утверждал, что хлыстовство наследовало главным европейским ересям Средневековья — богомилам и альбигойцам, а порой и прямо, без посредников, гностицизму. В XVIII веке, по словам Бонч-Бруевича, "повсюду в России, — как-то сразу и неожиданно, — начинают открывать общины, в глубокой тайне организованные".
Редкий для большевика интерес Бонч-Бруевича играл ему на руку, особенно когда ему угрожал арест за подпольную деятельность. В этом случае его друзья использовали "толстые тома Бонча, в которых очень пространно и очень скучно говорилось о раскольниках", в качестве доказательства его невиновности. "Разве может автор этих книг быть революционером? — говорили светские дамы своим влиятельным друзьям. — Это слишком скучно и слишком "божественно" для большевиков".
Подпись Бонч-Бруевича стоит под множеством документов. Внес ученый-этнограф и свой вклад в дело установления красной диктатуры, подписав декрет о реквизиции банков в декабре 1917 и переезд правительства в Москву.
"Против обоих не возражали бы друзья Бонч-Бруевича из сектантов, а перенос российской столицы из Петрограда в прямой форме выражал их "чаяния", — отмечает Эткинд. — Культ Ленина, несомненным соавтором которого являлся Бонч-Бруевич, тоже был попыткой соединить народную веру и утопическую государственность".
Но на вершине власти тогда находилась еще одна сильная политическая фигура — Троцкий, отвечавший в Политбюро за антирелигиозную пропаганду. Более того, наркомвоенмор, поощряя новые расколы внутри православия, не симпатизировал старым, и в своей программной статье "Литература и революция" обвиняет писателей в "полухлыстовской перспективе на события". Именно из-за Троцкого в октябре 1920 года Бонч-Бруевичу пришлось оставить должность управляющего делами Совнаркома. Пришлось уйти даже вопреки воле Ленина.
Читайте также: Протопоп Аввакум — мученик за обряд
В заключение еще раз позволим себе процитировать работу "Хлыст" А. Эткинда: "Обещания мобилизовать секты в поддержку революции, повторявшиеся со времен 2-го съезда, так и оставались невыполненными. За одно это Бонч-Бруевич должен был расстаться со своим местом. Он, однако, уже достиг необычайного успеха. Его двойная карьера этнографа и политика масштабна и уникальна. Он завоевал себе место не только в истории русской революции, но и в интеллектуальной истории.
Вряд ли история этнографии, и вообще гуманитарной науки, знает много случаев столь тесного соединения политического лидерства со специальным знанием. Лишь закономерно, что именно в этом случае, когда знание было связано со столь большой властью, оно оказалось в такой же степени ложным".