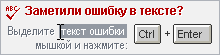Беседа с академиком Н.А. Борисевичем
Тридцать (а может быть и больше — запамятовал!) лет назад мы ехали вместе в Минск. Он — домой, я — в командировку. В ту самую Академию наук Белоруссии, которую он возглавлял.

Вроде бы путь и не долгий — десять часов всего, но это время соединило наши судьбы навсегда, потому что мне открылся человек удивительный, легендарный и оттого незабываемый.
Такие встречи врезаются в память и душу, и в тебе зарождается гордость за Отчизну, судьба которой опирается на плечи таких людей, как Николай Александрович Борисевич.
Потом судьба развела нас, как и весь народ, разбив на две части — российскую и белорусскую. И вот только недавно посчастливилось встретиться вновь в том же здании Академии, что находится на проспекте Независимости (раньше — имени Ленина). Впрочем, названия улицам и площадям можно давать разные, но они ничего не могут изменить в отношениях людей: друзья остаются друзьями, если их взгляды и убеждения не меняются под воздействием конъюнктуры. Для Борисевича подобное невозможно. И тому множество причин, которые корнями уходят в прошлое. Собственное, республики и всей страны.
Читайте также: Чаепития в Академии: истина прекрасна и в лохмотьях!
Тогда в поезде Николай Александрович разоткровенничался, вспоминал военное лихолетье, а я, помнивший его только детскими отрывками, впитывал каждое слово, потому что Борисевич рассказывал о тех местах, где я родился и рос. Он же там сначала партизанил, а потом воевал в действующей армии. Обычная судьба для поколения белорусов, которые едва успели окончить школу в 41-м.
Он мечтал поступить в Белорусский государственный университет на физико-математический факультет. 18 июня получили аттестат об окончании школы, в тот же вечер прошел выпускной вечер.
"Лучной Мост" — так необычно и красиво назывался поселок, где он родился и жил. Никакого моста, конечно же, не было — лес начинался рядом, а река Березина была в километре. Чуть подальше, правда, был мост, и ему выпала особая роль в судьбах выпускников того года.
Через четыре дня после выпускного бала грянула война. Здесь еще ждать не пришлось, она в полной мере проявила себя бомбежкой на рассвете 22 июня, а с 1 июля жаркими боями на Березине. У того самого моста, который немцы хотели форсировать с ходу, но у них это не получилось. Бой был тяжелым. Танковая колонна, ворвавшаяся на мост, ушла под воду — мост все-таки успели заминировать. Однако практически все, кто сражался на Березине, погибли.
Мальчишки из Лучного Моста попытались уйти на восток, однако неподалеку от Могилева они увидели немецкие танки, которые давно уже обогнали их. А потому пришлось возвращаться в родной поселок. Тут и началась сначала подпольная жизнь, а потом и партизанская.
У разрушенного моста, там, где полегли солдаты Красной Армии, собирали оружие. Прятали его до лучших времен. А когда сложилось настоящее партизанское движение, образовались даже полки и бригады, оружие это, ох, как пригодилось! Борисович специализировался на вражеских эшелонах — он пускал их под откос. В истории партизанского движения Белоруссии его имя упоминается среди самых удачливых партизанских диверсантов: на его счету эшелоны и с техникой, и с живой силой, и с топливом. Боевые ордена — память о тех днях и ночах, когда приходилось в холоде и грязи лежать у железнодорожных откосов и ждать вражеские эшелоны. Впрочем, и мосты у подрывников тоже пользовались популярностью. Их взрывать было особенно трудно, но тем не менее и они есть на счету Борисевича…
А когда Красная Армия возвратилась в Белоруссию, молодые партизаны стали ее бойцами, чтобы в конце концов закончить войну в Германии. Этот путь прошел и рядовой Борисевич.
Кстати, его несколько раз пытались сделать офицером, даже отправляли на учебу в тыл. Но он неизменно отказывался, мол, только физиком хочет стать. Был такой случай. Тяжелые бои шли на Кюстринском плацдарме. Воевал там и Борисевич. Вдруг вызывают его в штаб, мол, надо ехать в Смоленск учиться. Николай отказывается: только в университет на физика! Удивился командир — до Победы два шага, а солдат назад на плацдарм просится. Понял он, что обидно уезжать в тыл, когда рядом Берлин…
Остался солдат в строю. Демобилизовали его только в ноябре 45-го. Перед отправкой домой на вокзале построили, пришел прощаться командир полка. На Борисевиче бушлат был истрепанный, да и не первой свежести — в окопах не отстираешь его и не погладишь. Приказал командир адъютанту принести его шинель, только погоны распорядился снять. Так и проходил еще несколько лет рядовой Борисевич в полковничьей шинели. Впрочем, он уже студентом стал. Того самого Белорусского университета, о котором мечтал в июне 41-го. Приняли его в декабре 45-го и потому, что солдатом был, и потому, что за войну знаний не растерял.
Наука была щедра к нему. Много лет он был заместителем директора Института физики, довелось руководить и Академией наук Белоруссии.
Из официальной справки (2008-й год): "Н.А. Борисевич в настоящее время Почетный президент НАН Белоруссии и заведующий лабораторией Института молекулярной и атомной физики НАН Белоруссии. Академик НАН Белорус сии, АН СССР, Российской Академии наук, Европейской академии наук, искусств и словесности, зарубежный член ряда академий.

Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Франциска Скорины, Дружбы, орденами Отечественной войны 1 и 11 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями "Партизану Отечественной войны 1 степени", "За взятие Берлина" и другими, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Республики Беларусь".
Для меня прошлое Академии наук Белоруссии связано с двумя людьми. Оба они возглавляли Академию. Матрос революции, который в 17-м году штурмовал Зимний дворец, потом был сельским учителем, и в конце концов стал крупнейшим биологом страны. Это — Василий Феофилович Купревич. Теперь его имя носит академический институт в Минске. А следующий президент Академии — подпольщик, партизан, солдат Великой Отечественной. Он добился выдающихся успехов в физике, и свидетельством тому стали высшие награды Родины. Это Николай Александрович Борисевич. И что самое важное: в годы изломов, потрясений и бурь и Купревич, и Борисевич всегда оставались верны своему долгу, своей Отчизне.
Для академика Борисевича еще одним испытанием стал Чернобыль. Трагедия случилась в то время, когда он возглавлял Академию наук Белоруссии. Об этом мы и говорили более подробно при очередной нашей встрече.
— Как вы, президент Академии наук Белоруссии, узнали об аварии в Чернобыле?
— Она произошла 26 апреля, но два дня я ничего не знал. Никто ничего не сообщал мне. И только 28 апреля мне позвонили из Института атомной энергетики, сообщили, что на территории у них очень высокая радиация. Там работал у нас исследовательский реактор, там существовало хранилище радиоактивных изотопов, и я решил, что где-то произошла разгерметизация. Я распорядился, чтобы они все померили за пределами института — на дороге, в поле, в лесу. Через некоторое время они вновь выходят на связь, сообщают, что там уровни радиации еще выше. Мы поняли, что где-то произошла катастрофа. Директор института Василий Борисович Нестеренко в тот день находился в Москве. Там как раз обсуждалась проблема создания передвижной атомной электростанции "Памир". Вскоре директор позвонил мне, сказал, что произошла авария на Чернобыльской атомной станции.
— Но ведь руководство Республики уже знало о случившемся!?
— Однако в Академию наук ничего не сообщали. Очевидно, в Москве еще не понимали масштабы происшедшего. Или хотели все сохранить в секрете. Мне как физику все стало понятным сразу же. Хотя, конечно, масштабы катастрофы даже представить было трудно — мы не могли даже предположить, что такое может случиться. Связались с Первым секретарем Компартии Белоруссии Н. Н. Слюньковым.
Оказывается, он уже знал об аварии. Сказал, что панику поднимать не надо, мол, ничего страшного не произошло. Директор Института ядерной энергетики В. Б. Нестеренко вернулся из Москвы. Я тут же собрал Президиум Академии, и на нем Нестеренко рассказал более подробно о ситуации. Это были, конечно же, самые предварительные данные. О реальной ситуации в Чернобыле мы не догадывались.
— И когда же она прояснилась?
— Пожалуй, лишь в первых числах мая. Хотя Академия включилась в ликвидацию последствий аварии сразу же после заседания Президиума. Точнее, мы начали анализировать ситуацию, так как слухи о происшедшем уже начали расползаться по Республике, да и измерения, которые велись в наших научных центрах, становились все тревожнее. Но мы больше походили на слепых котят, у которых глаза еще закрыты, а потому они ничего не видят вокруг. Информации у нас по-прежнему не было.
— Неужели власти ничего не предпринимали?
— К сожалению. По крайней мере, мне ни о чем не сообщали… Внешне в городе ничего не изменилось. На открытых площадках устраивались праздничные базары, на них продавали овощи, фрукты, разные продукты. Погода была прекрасная, а потому люди вместе с детьми постоянно были на воздухе, Мало кто догадывался, что этот "свежий воздух" был наполнен радиоактивным йодом. Концентрация его была достаточно высокой. Впоследствии выяснилось, что этот йод покрывал всю территорию Белоруссии. Правда, период полураспада у него недолгий, и вскоре он исчез, но последствия, конечно же, есть. В зоне радиоактивного поражения рак щитовидной железы встречается гораздо чаще, чем в других районах, и это прямое следствие воздействия аварии в Чернобыле.
— Значит, первое время вы были в некоторой растерянности?
— Можно и так сказать. Нам нужно было любыми способами добывать информацию, чтобы действовать разумно и эффективно. Мы решили командировать В. Б. Нестеренко в Чернобыль. 30 апреля он вылетел туда. После его возвращения я вновь собрал Президиум Академии. Присутствовали все директора институтов. Василий Борисович подробно рассказал обо всем, что случилось в Чернобыле. Был момент, когда этот мужественный мужчина, много повидавший на своем веку, не смог сдержать слез. Он был потрясен. Мы все поняли, что в Чернобыле случилась великая трагедия. С этого момента Академия наук включилась ("как бы выразиться точнее?") в "минимизацию" последствий. В общем, надо было изучить, как именно и насколько сильно загрязнена территория Белоруссии.
Я возглавил Оперативную группу Академии наук, куда были включены и сотрудники госуниверситета, и Политехнического института. В общем, все, кто имел отношение к радиационной безопасности. Было оборудовано несколько автомашин, они отправились в пострадавшие районы. В ионе была сделана подробная карта радиационного поражения Гомельской области. За июль — Могилевской области. Эти карты были представлены в Совет Министров и ЦК партии. В Совете Министров работал штаб по Чернобылю. Официально он назывался "Комиссией по преодолению последствий аварии на Чернобыльской электростанции". Часть штаба находилась в чернобыльской зоне. Время от времени руководители там менялись…
— Подобно тому, как менялась Правительственная комиссия в самом Чернобыле?
— Система работы была одинакова. В принципе такой подход к делу оправдывал себя, так как все находилось под контролем и, в случае необходимости, можно было предпринимать экстренные меры. Я входил в этот штаб. Мы собирались раз в неделю, анализировали все, что удавалось сделать и что необходимо предпринимать.
— Например?
— Приведу несколько эпизодов. Еще раз хочу подчеркнуть, что приборов для определения радиации, особенно в продуктах питания — молоке, мясе и других, практически не было. Поэтому мы срочно собирали аппаратуру, которая была в Академии. В Институте атомной энергетики решили организовать выставку приборов, необходимых в зоне поражения. Кстати, в самом институте был комплекс, который позволял измерять радиоактивность почвы, разных продуктов и так далее. Эта аппаратура работала в три смены, нагрузка на нее была огромная. Итак, организовали мы выставку. На нее приехало все руководство Республики, человек пятьдесят. Ученые начали рассказывать о своих приборах. Вижу, наши гости не очень-то понимают, о чем конкретно идет речь, не воспринимают рассказы специалистов.
Тогда я беру власть в свои руки, становлюсь гидом по всей выставке. Просто и доходчиво объясняю важным гостям суть того или иного прибора. Не вдаваясь, конечно, в детали. Да и зачем они им!? В конце экскурсии подвожу их к комплексу, который измеряет весь состав изотопов. Сказал, что он один единственный и работает в три смены. Если он выйдет из строя, то наука "ослепнет", станет беспомощной… Я попросил купить два таких прибора за границей. На это потребовалось бы около 50 тысяч долларов. Первый секретарь ЦК партии распорядился изыскать деньги и приборы купить. К сожалению, денег так и не нашлось… Я говорю об этом с горечью. Республика страшно пострадала, потери составили миллиарды долларов, а каких-то пятьдесят тысяч не нашлось на покупку очень нужных приборов…
— Наверное, начальство знало, что комплекс в Институте будет работать надежно?!
— Он, действительно, работал хорошо. Но это благодаря сотрудникам института, которые очень квалифицированное его эксплуатировали. Они прекрасно понимали, насколько этот единственный в Белоруссии комплекс важен для людей, пострадавших от аварии.
— Все-таки странно, что тех 50 тысяч не нашлось…
— До конца не понимали, насколько велика опасность, нависшая над людьми. К сожалению, такого понимания не было ни у нас, ни в Москве. Лишь позже начальство поняло, что Чернобыль — это всерьез и надолго.
— А вы?
— Я — физик. По-моему, этого достаточно, чтобы оценить происходящее довольно быстро. Я связался с президентом Академии наук Украины, и мы договорились с Борисом Евгеньевичем Патоном создать совместную программу борьбы с последствиями аварии. Во второй половине 1986-м году такая программа была создана. Она работала пять лет. Потом мы сделали нужные дополнения, и она работала еще пять лет. Тогда же в 86-м стало ясно, что Институт ядерной энергетики не может в полной мере обеспечить безопасность людей. Сотрудники его занимаются радиацией, а не воздействием ее на живой мир. Мне стало ясно, что нужен центр, который занимался бы этими проблемами. Создать же институт в то время было непросто. Нужно было решение нашего правительства, а потом и союзных ведомств, в том числе и решение Совета Министров СССР. В общем, процесс долгий и трудоемкий.
У нас в Академии был Отдел геронтологии. Возглавлял его доктор наук Конопля. Я подумал, что нам уже не до геронтологии, надо спасать детей. На основе этого Отдела я предложил создать Институт радиобиологии. Наш Совет министров поддержал меня. Обратился я в Президиум Академии наук СССР. Тогда президентом был Анатолий Петрович Александров. Честно говоря, он не хотел, чтобы у нас такой институт был. Пытался успокоить меня, мол, потом институты нужно будет открывать… Но меня активно поддержали Георгий Константинович Скрябин, ученый секретарь Академии, и Александр Александрович Баев, академик-секретарь Отделения биологических наук. На заседании Президиума Академии не часто бывает, чтобы возражали президенту, но на этот раз именно так и случилось. Было принято решение о создании Института радиобиологии. Я посчитал, что свое дело довел до конца.
— Именно во времена чернобыльский событий вы ушли с поста президента Академии наук Белоруссии. Почему?
— Я отработал четыре срока на этом посту. На пятый уже не баллотировался. В марте 1987 года состоялись выборы нового президента. Я же занялся наукой. Уехал в Москву, работал в ФИАНе, а Минске продолжал заведовать лабораторией. После моего ухода неожиданно уволили Нестеренко с должности директора Института ядерной энергетики. Это было для меня странным, так как вклад Василия Борисовича в ликвидацию последствий аварии в Чернобыле огромный. И сегодня он активно занимается этими проблемами, особенно профилактикой заболеваний у детей. Считаю, что с ним поступили несправедливо, обвинив его в том, в чем он не был виноват.
— Естественно, что все связанное с Чернобылем, в Белоруссии воспринимается болезненно?
— В свое время Чернобыль воспринимался очень остро. В последние годы тревога ослабла, даже появилась успокоенность какая-то… А что делать?! Пострадала большая территория, часть ее вообще выведена из пользования — там радиоактивные трансурановые изотопы, которые живут тысячи лет. Это тяжелая гиря, если можно так выразиться, на белорусской нации. Избавиться от нее невозможно, ее надо нести. Я, честно говоря, не вижу, что можно кардинально изменить.
— Это же слова физика!?
— А что делать? Я знаю период полураспада того же цезия или того же стронция, а поэтому понимаю, что все всерьез и надолго.
— Вы часто бывали в пораженных зонах?
— Конечно. Я ведь был депутатом Верховного Совета СССР как раз от пяти районов, которые сильно пострадали от Чернобыля. Я туда выезжал регулярно. Встречался с людьми. Мне постоянно писали мои избиратели. Так что ситуацию я знал хорошо. По возможности старался помогать людям. Довольно часто это удавалось, так как ко мне прислушивались и с мнением моим считались. Но это, конечно, мелочи по сравнению с той трагедией, которая случилась. Но жизнь состоит из мелочей, и поэтому каждый человек старался как-то уменьшить влияние случившегося на свою жизнь.
— Как вы относитесь к строительству атомной станции в Белоруссии?
— Я знал, что такой вопрос обязательно будет, а потому думал, как ответить. Простых рецептов нет. Атомная авария случилась не на территории Белоруссии, а пострадали мы. Сегодня АЭС работают рядом с границами Белоруссии — одна под Смоленском, другая в Литве. Кстати, Польша и Литва собираются строить общую атомную станцию.
Радиоактивные отходя с этих АЭС никуда не вывозятся, захораниваются там же. На мой взгляд, уже не имеет особого значения, где строить станцию. Если случается авария, то она затрагивает всех, вне зависимости от того, есть у вас АЭС или нет. Так что надо исходить из экономической целесообразности и эффективности. С этой точки зрения атомная станция в Белоруссии нужна. Конечно, в первую очередь следует думать о безопасности.
— Вы прошли войну.
— Да. С начала и до конца. Подпольщиком, партизаном, а потом солдатом Советской армии.
— Можно ли сравнивать войну и Чернобыльскую трагедию?
— Нет. Война — это война. В ней свой счет. Достаточно побывать в Хатыни, чтобы хотя бы чуть-чуть прикоснуться к ней. Война страшнее Чернобыля во много раз. Её цена для Белоруссии два миллиона триста тысяч человеческих жизней. Каждый четвертый погиб. Разве можно что-либо сравнить с этим?!
— Жизнь была долгой и трудной. А что вспоминается в первую очередь?
— Хочу похвалиться. Можно?
— Конечно.
— Когда я стал президентом, Академия начала развиваться очень быстро. Ее признали во всем мире, я уже не говорю о Советском Союзе. Это, безусловно, было очень приятно. Работал дружный коллектив, открывались новые институты, велись актуальные исследования… И так прошло целых 18 лет! Это были лучшие годы жизни…
— Вас в Москве иногда называли "партизаном в науке". Вы знали об этом?
— Конечно.
— А что такое "партизанщина в науке"? Я в хорошем смысле этого термина…
— Партизанский отряд всегда сам принимал решение. Особенно на первом этапе войны. Согласовывать с центральным штабом времени не было. Когда немцы тебя окружали, то надо было воевать, сражаться с ними. Вот каждый и действовал по своему усмотрению. Это только, когда "рельсовую войну", можно было спланировать совместные действия. Каждый выбирал себе дело по силам и умению. Я рвал поезда очень хорошо.
— Сколько?
— Официально — три взорванных эшелона. Это по донесениям.
— А реально?
— Больше десяти. Летели под откос красиво… А кроме этого мы ставили мины на шоссейных дорогах. В нашем партизанском полку я командовал уже взводом, хотя был рядовым и необученным, да и образование только средняя школа. Под моим началом был старший лейтенант. В партизанах людей оценивали не по званиям, а по делам.
— Как и в науке?
— В ней то же самое…