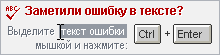Мгновения, мгновения, мгновения... ДОКЛАДНАЯ СТАРШЕГО МАЙОРА Когда войска Рима много веков назад забрасывали в осажденные города Греции, Египта, Сирии и Иерусалима трупы зараженных людей и животных, чтобы возбудить тяжелые
Мгновения, мгновения, мгновения...
ДОКЛАДНАЯ СТАРШЕГО МАЙОРА
Когда войска Рима много веков назад забрасывали в осажденные города Греции, Египта, Сирии и Иерусалима трупы зараженных людей и животных, чтобы возбудить тяжелые недуги среди населения и обороняющихся воинов противника, римские легионеры вряд ли задумывались о том, что когда-либо удостоятся сомнительной чести прослыть первоиспытателями бактериологического оружия. Подобная мысль явно не посещала в XVIII веке и испанских конквистадоров, которые при завоевании Северной Америки применили еще одну “новинку” — распространили среди не ведавших подвоха индейских племен зараженные оспой одеяла, вызвав гибель от смертоносной эпидемии около 3 миллионов индейцев. И только в ХХ веке немцы и японцы стали инициаторами первых программ промышленного производства болезнетворных бактерий и токсинов. Немцы в первую мировую войну производили лабораторным путем микробы сапа и применяли их для заражения лошадей во французской армии. Японцы же чуть позже пошли значительно дальше...
В первые дни 1938 года на стол И.В. Сталина легла срочная бумага.
“Совершенно секретно
ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Докладываю:
Агентурными данными установлено, что в 1937 году в Харбине японцами организована бактериологическая лаборатория. В лаборатории работает около двухсот специалистов из Киотского университета.
Лаборатория производит опыты по культивированию и распространению бактерий чумы, тифа и холеры.
Испытания с бактериями холеры дали положительные результаты.
Ст. майор госбезопасности
Гендин.
4 января 1938 года”.
Руководитель Советского Союза мгновенно оценил зловещий смысл этой разведывательной информации. К тому времени Сталин уже располагал полученными через агентуру документальными данными о военно-политических планах японцев, направленных против СССР. Их суть в ноябре 1935 года достаточно конкретно и откровенно изложил в личном послании министру иностранных дел Японии Х. Арита видный японский государственный деятель и дипломат Т. Сиратори. “Прежде всего Россия должна, — писал Сиратори, — разоружить Владивосток и закончить вывод своих войск из Внешней Монголии, не оставив ни одного солдата в районе озера Байкал; это должно быть нашими минимальными требованиями, как и другие, не говоря уже о вопросах рыбной ловли, правах и интересах в лесном хозяйстве. Вопрос о передаче нам Северного Сахалина по умеренной цене включается сюда тоже. В будущем надо иметь также в виду покупку Приморской области Сибири. Задача японской политики — это решительный разрыв с Советской Россией. Вся дипломатическая деятельность должна быть направлена на эту цель. Я считаю, что по сравнению с этой великой целью китайский вопрос и проблема разоружения являются второстепенными”.
Этот документ, добытый советской разведкой, глубоко врезался в цепкую память советского руководителя. Поэтому, когда И.В. Сталин прочитал сообщение о создании в Харбине японской секретной бактериологической лаборатории, он однозначно определил для себя, на каких просторах и против каких солдат это бактериологическое оружие может быть в перспективе использовано.
— Как обстоят у нас дела с вакцинацией личного состава Дальневосточных военных округов? — поинтересовался Сталин у наркома обороны маршала Ворошилова. Вопрос застал наркома врасплох. Он не был готов сразу же дать точный ответ о состоянии дел с массовыми прививками среди красноармейцев. Поэтому, смекнув, что подобные вопросы не задаются ни с того, ни с сего, решил попытаться выяснить у Сталина причину его интереса к столь специфическому и неординарному делу.
— Массовые прививки против оспы уже сделаны во время медосмотра на приемных комиссиях для новобранцев, — отчеканил нарком. — Требуются еще дополнительные меры?
— Да, японцы намерены заражать нас холерой, чумой и тифом, и это очень реально, — промолвил Сталин. — Наша медицинская служба должна быть готова к такой опасности...
Однако первыми “пациентами” японских бактериологов стали не красноармейцы, а английские, американские, австралийские, китайские и корейские пленные, захваченные японцами во вторую мировую войну в ходе боев в районе Тихого океана и в Юго-Восточной Азии.
Для использования “продукции” харбинской лаборатории японцы создали в оккупированной ими Маньчжурии два специальных отряда — №731 и №100 для производства и испытаний бактериологического оружия. Один из этих отрядов мог изготовить за месяц около тонны суспензии холерного вибриона, доведенной до консистенции густого сиропа. Отряд №731 за 2—3 месяца выращивал до 40 килограммов блох, зараженных чумой. Всю эту дьявольскую продукцию японские военные врачи испытывали на своих узниках. Результат “опытов” хорошо известен: за 1940—1945 годы в отрядах № 731 и № 100 было зверски умерщвлено более трех тысяч человек, подвергшихся воздействию японского бактериологического оружия. Долгое время подробности разработок бактериологического оружия, которыми руководил генерал-лейтенант японской императорской армии С. Исия, по политическим соображениям держались в строгом секрете. Гром грянул в середине 80-х, когда документы о деятельности двух зловещих отрядов попали в руки ученых и исследователей. В 1980 году в Токио вышла наделавшая много шума книга японского публициста Сэйити Моримура “Ненасытность дьявола”, в которой раскрывались тайные планы японской военщины по развязыванию бактериологической войны.
Докладная старшего майора прошла долгий и тернистый путь, прежде чем попала на стол советского руководителя. Информация о бактериологической лаборатории впервые, как это ни парадоксально, стала достоянием... японской военной контрразведки. Министерство обороны Японии вменило в обязанность своим “глазам и ушам” зорко следить за охраной объекта от постороннего взгляда и уж тем более от случайного или преднамеренного проникновения. Каждый контрразведчик из особо засекреченной группы нес персональную ответственность: кто за проверку приглашенных ученых, кто за строительных рабочих, кто за обслуживающий персонал, включая лаборантов, врачей, поваров.
И надо же было так случиться, что именно в самом надежном месте — в особой группе контрразведчиков произошел непредсказуемый “прокол”. Один из офицеров, обслуживавших объект, готовясь для поступления в военную академию, начал брать частные уроки русского языка у эмигранта из России, долгое время жившего в Японии. Эмигрант, назовем его “Арс”, был хорошо известен японской полиции, поскольку она сама помогла ему подыскать работу в качестве преподавателя японского языка и японских обычаев для вновь прибывших в Токио сотрудников советского посольства. “Арс” был из старинного дворянского рода, ненавидел “совдепию” и его политические убеждения вполне устраивали японцев.
Приступив к работе, “Арс” очень долго и настороженно присматривался к обстановке. По мере развития его контактов с членами советской колонии и установления нормальных деловых отношений с учениками “Арс” начал постепенно “розоветь”. Он стал с интересом воспринимать информацию о жизни в Советской стране, которую раньше называл не иначе как “большевистской пропагандой”. Начал теплее и дружественнее относиться к советским дипломатам. Особенно после того, как те выполнили его просьбу и навели справки о судьбе родственников, оставшихся в России.
Однажды во время урока в посольстве кто-то из учеников “Арса” попросил познакомить его с японцем, который изучает русский язык. “Арс”, не долго думая, назвал имя японского офицера — того самого, что готовился к поступлению в академию. Знакомство состоялось, и оба ученика были весьма довольны, поскольку могли вдоволь попрактиковаться друг с другом в нерабочее время. Взаимное увлечение лингвистикой сравнительно быстро переросло в доверительные дружеские отношения, японец стал более открытым и откровенным. Как-то он признался, что не очень дорожит своей работой и намерен пойти учиться дальше в военную академию. А русский язык нужен ему, чтобы иметь преимущество перед другими абитуриентами.
В другой раз японец высказал опасения за свое здоровье, заявив, что его частые командировки в Харбин “довольно рискованны”, поскольку “существует опасность подхватить тяжелую заразу”. И наконец он сказал главное — Япония готовится к бактериологической войне. Это было первое упоминание о Харбинской лаборатории в прямой связи с бактериологическим оружием.
Обобщенная информация срочно ушла в Центр. Ушла, чтобы вернуться для перепроверки и возможных дополнений через другие дальневосточные резидентуры советской внешней разведки. И когда факт создания японцами лаборатории по разработке бактериологического оружия подтвердился, старший майор госбезопасности Гендин взялся за записку в Кремль.
Секретный документ советской внешней разведки сыграл значительную роль в разработке и усовершенствовании медикаментозных средств на случай возникновения эпидемий и опасных заболеваний как в армии, так и среди мирного населения советского Дальнего Востока. В медицинских учреждениях армейских частей были созданы специальные группы по борьбе с холерой, оспой и другими опасными болезнями. Населению были в обязательном порядке сделаны соответствующие профилактические прививки. И когда в 1945 году советские войска нанесли массированный удар по японской Квантунской армии, все советские войска были готовы к отражению возможной бактериологической акции японцев.
Информация от января 1938 года о японской бактериологической лаборатории в Харбине послужила не только сигналом опасности для Советской Армии. В дальнейшем она дала возможность советскому правительству во весь голос заявить о грозящей миру катастрофе и объявить бескомпромиссную борьбу с бактериологическим оружием. 16 декабря 1971 года на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН была одобрена Международная конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. А четыре месяца спустя, 10 апреля 1972 года, эту конвенцию в Москве подписали представители СССР, США, Великобритании, а затем и еще сорока с лишним стран. Бактериологическое оружие было объявлено вне закона.
Ярослав ШАТРОВ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.