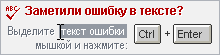Борис Стругацкий: Фугас, пробивающий стену
Мы были абсолютно уверены, что умрем в этом топком вонючем болоте. Нам казалось, пусть лучше будет зловонное болото, чем кровавое. И мы молили Бога, чтобы эта неизбежная развязка оттянулась насколько возможно.
Братья Стругацкие пробивали стену несвободы мощными фугасами даже тогда, когда писали в стол, потому что самиздат не дремал и любая вещь Стругацких начинала свое хождение в народе задолго до появления в печати.
Самозапрет на ТВ-выступления
- Борис Натанович, известно, что Вы достаточно часто даете интервью журналистам. Тем не менее, практически никогда не снимаетесь на телевидении и предпочитаете не встречаться с журналистами лично. Чем это вызвано?
 - Опыт показал, что "встречаться лично" - значит, делать двойную работу. Ведь разговариваем мы все, даже записные златоусты, достаточно коряво и крайне редко бываем точны в выражении своих мыслей. Так что каждый "разговор" приходится потом заново редактировать и доводить до ума. Не лучше ли это делать сразу, с первого же захода, "в письменном виде"? А что касается самозапрета на ТВ-выступления, то это — старинная традиция, сложившаяся в незапамятные времена и по давно забытым уже причинам. Нарушать ее не хочется, главным образом, потому, что я вообще не люблю выступать перед большими аудиториями. Не нравится мне этот процесс.
- Опыт показал, что "встречаться лично" - значит, делать двойную работу. Ведь разговариваем мы все, даже записные златоусты, достаточно коряво и крайне редко бываем точны в выражении своих мыслей. Так что каждый "разговор" приходится потом заново редактировать и доводить до ума. Не лучше ли это делать сразу, с первого же захода, "в письменном виде"? А что касается самозапрета на ТВ-выступления, то это — старинная традиция, сложившаяся в незапамятные времена и по давно забытым уже причинам. Нарушать ее не хочется, главным образом, потому, что я вообще не люблю выступать перед большими аудиториями. Не нравится мне этот процесс.
- Считаете ли Вы, что жизнь известного человека, деятеля культуры, писателя публична? Публике интересны не только произведения, но и то, какой человек стоит за ними. О Вас как о человеке известно сравнительно мало. Вы сознательно ограждаете свою личную жизнь от посторонних?
- Не знаю, как "жизнь известного человека" вообще, но что касается писателя, то я убежден, что жизнь писателя — это его книги, его выступления в печати вообще. Пертурбации его личной жизни, семейные дела, лирические эскапады, "путешествия и приключения" - все это никого не должно интересовать.
- Верите ли Вы в силу положительного примера? То есть, верите ли, что информация о том, что Стругацкий не пьет, например, способна оказать благотворное влияние?
- Как-то плохо верится. Во всяком случае, ни на кого из моих знакомых эта информация никакого впечатления не производит и не производила никогда. Хотя теоретически это, разумеется, возможно. Впрочем, теоретически все на свете возможно.
Кто идет во власть
- Несмотря на огромную популярность Ваших с братом произведений, власть всегда относилась к вам настороженно и даже неприязненно. Возникала ли у Вас мысль об эмиграции? Если нет, то почему?
- Никогда у нас эта мысль не возникала — даже в самые тяжелые времена. Может быть, просто давление было недостаточно сильным? Мы по натуре своей всегда были домоседы, и "дальние края" никогда не влекли нас за горизонт. Не нужен был нам берег турецкий, и Африка нам никогда не была нужна. (Хотя с детских лет я мечтал съездить в амазонские джунгли — но не насовсем, а в экспедицию, и не просто поглазеть, а поработать там — биологом или этнографом). Наша родина была там, где наш дом, наши друзья, наши читатели (наша работа), и никакой другой родины мы представить себе никогда не могли.
- Каким образом происходила эволюция Ваших политических взглядов?
- Мы с Аркадием начинали жизнь как отпетые коммунисты, причем не просто коммунисты, а сталинисты. Мы были типичными героями Оруэлла, у которых двоемыслие было отработано идеально. Что это такое? Это способность сделать так, чтобы две противоречащие друг другу идеи никогда не встречались в сознании. Всю жизнь мы носили в своем сознании и факт, что органы не ошибаются, и тот факт, что наш дядя, коммунист с дореволюционным стажем, расстрелян в 37-м году, а отец исключен из партии. И это нужно было нести по жизни таким образом, чтобы эти две мысли приходили в голову только порознь...
И вот эти два человека, пройдя через XX съезд, через XXII съезд, Венгрию, свержение Хрущева, Чехословакию, наконец, приходят к такому состоянию, когда они видят: социализм — дерьмо. А коммунизм — строй, может быть, и хороший, но с этими жлобами, которые нами управляют и непрерывно пополняют свои ряды, ни о каком коммунизме и речи быть не может. А капитализм? В капитализме есть тоже масса вещей, которые нам отвратительны. Скажем, гедонизм, то есть теория о том, что жить надо в свое удовольствие и только ради удовольствия... Нам тогда это было неприятно. Нам казалось, что человек должен жить, сжигая себя, как сердце Данко.
И мы написали роман "Град обреченный" о том, как человек, пройдя огонь, воду и медные трубы,повисает в воздухе. Это реквием по всем социальным утопиям вообще — социализму, коммунизму, капитализму. Мы сами перестали понимать, к чему должно стремиться человечество, хотя еще и пытались выдвинуть какую-то контридею, лежащую вне социального устройства и политики, а именно идею Храма Культуры, который строит человечество...
- Считали ли Вы раньше и считаете ли сейчас, что литература, в особенности футурологическая фантастика, способна каким-то образом повлиять на общество? Что-то исправить? От чего-то предостеречь? Есть ли какие-то примеры этого?
- Вообще говоря, литература (и искусство вообще) радикально ничего в мире не меняет. Есть такие книги, разумеется, которые оказывают влияние на целый слой читателей, но слой этот всегда тонок (в лучшем случае — миллионы читателей), и влияние всегда недолговечно, кратковременно, в лучшем случае — одно-два поколения. Так произошло, например, с "1984" Оруэлла — книгой, потрясшей мир, а теперь уже почти забытой. Или с "Архипелагом ГУЛАГ" - величайшим произведением ХХ века, но с такой же примерно судьбою. Реальная жизнь перемалывает и трансформирует любые представления о ней — последовательно, неотвратимо и беспощадно.
- Верили ли вы с братом, что жизнь в нашей стране изменится так круто, как это произошло во второй половине 80-х?
- Мы были абсолютно уверены, что умрем в этом топком вонючем болоте. И что ничего другого никогда не увидим. Дети наши — может быть, хотя тоже вряд ли. Но мы сами уже совершенно точно не увидим ничего, кроме этих портретов, бесконечных Звезд Героев, кроме этих гнусных лозунгов и отвратительной, каждодневной лжи. То есть, рассуждая холодно и здраво, я понимал, что это общество не может существовать вечно. Ведь есть другие страны, от которых мы все более безнадежно отстаем, и это рано или поздно должно закончиться кровавым взрывом. Но эта перспектива нас не привлекала, потому что нам казалось, что пусть лучше будет зловонное болото, чем кровавое болото. И мы молили Бога о том, чтобы эта неизбежная развязка оттянулась насколько возможно далее. И тут, ко всеобщему изумлению, наступил 85-й год...
- Считаете ли Вы себя историческим оптимистом? То есть, как относитесь к общественному прогрессу/регрессу?
- Я, безусловно, считаю себя оптимистом. Если я уж подписался под словами: "...Чем велик человек? Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее" - если уж я подписался под этим, то уж наверное я оптимист, причем закоренелый.
- Как Вы думаете — человек неисправим? Ведь мы знаем примеры прекрасных людей, честных и мужественных, справедливых и совестливых. Почему они чаще встречаются в низах общества, а во власти их так мало? Другими словами, почему мы так часто выбираем во власть (если говорить о демократической процедуре) мошенников и негодяев?
- По двум причинам. Во-первых, "мошенники и негодяи" стремятся во власть с энергией необычайной — они любят власть, они в ней нуждаются, чего нельзя, как правило, сказать о людях честных, справедливых и совестливых. А во-вторых, власть сама по себе так устроена, что, попавши в нее, уцелеть можно только при условии, что подвергнешь себя самой решительной нравственной трансформации. Например, надо научиться врать, причем желательно — вдохновенно и с удовольствием. Надо научиться заключать союзы с "мошенниками и негодяями". Надо научиться "по-волчьи выть". И так далее. Иначе ты будешь из власти выброшен — с большими для себя или меньшими потерями. Словом, "демократия — отвратительный вид правления; жаль только, что ничего лучшего человечество не придумало".
- Если бы Вас избрали в Думу, к какой фракции Вы бы принадлежали?
- Наверное, к СПС. Там максимальная концентрация политиков, которые мне симпатичны.
- Борис Натанович, вот я по натуре фаталист. Мой фатализм распространяется и на общественные явления. Из него вытекает и моя аполитичность. То есть, я равнодушен к явлениям, на которые не могу повлиять. Чуть лучше, чуть хуже — не все ли равно в сравнении с трагедией самой жизни? Конечно, я кому-то симпатизирую, но бороться, отстаивать свои взгляды, вмешиваться — это не по мне. Насколько правильной Вы считаете активную гражданскую позицию и в чем эта активность может проявляться? Как она проявляется у Вас, если говорить не только о произведениях?
- Если, говоря о Стругацких, не говорить об их произведениях, материала для беседы почти не останется. Что же касается "активной гражданской позиции", то, по сути дела, она проявляется у меня разве что только в таких вот интервью, в которых я стараюсь с доступной мне точностью и честностью изложить потенциальному читателю свою точку зрения на происходящее и "поддержать" таким образом его мировоззрение (если оно совпадает с моим). Вряд ли я способен на большее.
- Но в августе 1991-го Вы были на Исаакиевской площади среди сограждан, пришедших защитить то, что считали необходимым защитить...
- Я пришел потому, что мне страшно было сидеть дома. Когда я туда пришел, я сразу помолодел, мне стало легко. Мне просто интересно с молодыми, с ребятами. Я не очень люблю маленьких детей. Но вот к мальчишкам в возрасте от 16 до 26 я испытываю теплые чувства, потому что я давно понял, что это и есть то самое будущее, о котором я все время думаю. Мне интереснее с ними, чем со своими сверстниками, за исключением самых близких друзей...
Писатель — тот, кого читают
- Вот уже более десяти лет не существует действующего писателя "братья Стругацкие" (Аркадий Натанович Стругацкий умер в октябре 1991 г. — Ред.). Между тем, Вы пишете и публикуете свои вещи под псевдонимом С. Витицкий. Мне понятно, почему Вы избрали псевдоним, причем сделали это открыто. Но Вы, вероятно, думали о том, что новые произведения С. Витицкого неизбежно будут сравнивать с произведениями Стругацких? Пытались ли Вы, сочиняя под псевдонимом, создать какой-то новый литературный имидж? Вообще, что Вы думаете по этому поводу? Ситуация ведь редкая.
- Я писатель-профессионал, и отказ от активной литературной работы вообще означает для меня (в значительно степени) потерю смысла существования. Поэтому я не мог не попытаться "в одиночкупилить двуручной пилой то бревно, которое 35 лет до того пилил вместе с напарником". Я знал, что будет трудно. Очень трудно. Так оно и оказалось. И если первый роман я писал, как нагруженный воз в одиночку толкал, то второй был — как тот же воз, но толкать его теперь приходилось в гору. Ни о каких "новых литературных имиджах" я и не помышлял. Я и сейчас о них не думаю. И если то, что у меня получается, попадет (с точки зрения квалифицированного читателя) в первую десятку произведений АБС, я буду более чем удовлетворен.
- Что для Вас первично — мысль или сюжет? Задумывая новое, хотите ли Вы рассказать историю, из которой сама собой возникнет идея, или все же донести некую идею, для чего конструируете сюжет?
- Как правило, первична некая ситуация, которую подсказало воображение. Это может быть картинка ("Пикник на обочине": стоянка неряшливых автотуристов, с точки зрения обитателей леса); или фраза-вопрос ("Поиск предназначения...": как могло случиться, что мы все дожили до своего настоящего, хотя десятки раз до этого могли быть умерщвлены нашими обстоятельствами); или чисто литературная ассоциация ("Малыш": что такое Маугли, выращенный негуманоидным Сверхразумом). А уже потом, в процессе разработки сюжета и в процессе самой работы, появляются и герои, и идеи.
- Что заставляло Вас с братом писать "в стол"?
- Исходя из собственного опыта, я могу сказать, что писать в стол — очень трудно. Но почему это трудно, на какие психологические свойства это опирается, мне сказать тоже нелегко. Каждый автор вообще, во всех видах искусства, испытывает потребность в опубликовании. Это изначальное, аксиоматическое свойство каждого творца, выражаясь высоким слогом. Нельзя себе представить творца, который не хотел бы опубликования результатов своих трудов. Я уже довольно давно пришел к выводу, что писатель — это не тот, кто пишет, а тот, кого читают. И когда писатель понимает это, когда он понимает, что не существует объективно и независимо от читателя, в котором он нашел свое отражение, тогда он и становится писателем. Любой автор испытывает страшные неудобства от одной только мысли, что вот я написал рассказ, я мучался, создал его, а он до сих пор находится в зоне некоторой информационной невидимости, как выразился некий молодой писатель. И все же он пишет, не имея даже надежды на опубликование. Заставляет его писать то же внутреннее чувство, которое заставляет писать вообще, такой внутренний червячок, который его точит, обнаженный нерв, если хотите...
- В книгах Стругацких, несмотря на серьезность идей, их драматизм и даже трагизм, масса смешного, остроумного и веселого. Это свойство темперамента, характера?
- Мы родились такими. Есть другие люди, которые как бы всегда стоят внутренне по стойке"смирно", считают, что улыбаться грешно, и делят все на "святое" и бытовое, что ли... Смеющиеся люди, между прочим, у государства вызывают подозрение. У любого государства. Потому что у государства существуют Знамя, Орден, Отечество, Патриотизм, Героизм и все другие слова, которые пишутся с Большой Буквы. С государством все ясно. Но вот люди, они живут в определенных условиях, в них прорывается этот смеющийся чертик. О каких бы серьезных вещах вы ни говорили или писали, вы обязательно найдете что-то смешное в повороте мысли или в сочетании слов — иначе нельзя. Иначе мы не умеем писать. И если бы я даже поставил перед собою задачу написать какое-то возвышенное произведение, где все слова были бы с Большой Буквы, у меня бы просто не получилось. Очевидно, это связано с темпераментом...
Ты сам свой высший суд
- Борис Натанович, у меня есть воспоминание о поступке, которым я, с одной стороны, горжусь, а с другой — сожалею о нем. Когда-то, лет тридцать назад, Вы, создавая свой знаменитый семинар фантастов, пригласили меня в нем участвовать. То есть, пригласили быть Вашим учеником. Я не отказался, но уклонился. Как Вы думаете — что я приобрел и что потерял?
- Я сильно подозреваю, что ничего существенного Вы не приобрели и не потеряли. Вы изначально понимали, что в фантастике самое главное — описывать реальный мир, искаженный, может быть, всего одним-единственным фантастическим допущением. Вы, безусловно, были самородком: сформулированную выше идею в те времена способны были понять, осознать и принять лишь считанные единицы. Ее и сейчас не понимают и не приемлют десятки и сотни литераторов, поклонников эскапистской литературы типа фэнтези. Так что если и стоит о чем либо Вам жалеть, то разве что о тех многих часах, которые Вы могли бы провести в нашей компании — компании веселых, талантливых, самобытных ребят. И если многие из них стали сейчас хорошими профессионалами, то вовсе не потому, что я их чему-то там научил (писать книги научить невозможно, это в человеке либо заложено от Бога, либо нет). Они стали профессионалами прежде всего потому, что имели возможность общаться друг с другом, спорить, обмениваться суждениями, победами и ошибками.
- Так случилось, что многие Ваши ученики, став известными писателями, продолжают посещать Ваш семинар. Это, конечно, хорошо. Но естественно ли это? Не ощущаете ли Вы некоего груза, некоего давления со стороны Ваших учеников? Не возникало ли у Вас желания хотя бы иногда сказать оперившемуся ученику: "Все, плыви дальше сам, желаю успеха"?
- Я воспринимаю все это как-то иначе. Мне и в голову не придет сказать кому-либо: все, плыви дальше сам. Он, по моим понятиям, и так плывет САМ. И всегда плыл САМ. Только раньше ему, может быть, по молодости лет казалось иногда, что я ему зачем-то нужен, а теперь он уже давно понял, что он — один, и всегда был один, и всегда будет один. Такая уж у него работа. "Ты сам свой высший суд!"
- Не думаете ли Вы, что за эти три десятилетия произошла канонизация фантастики? Любой шаг в сторону выводит писателя из разряда фантастов, что само по себе не страшно, но по существу превращает самый свободный, не терпящий границ жанр в своего рода Священное писание, где любая вольность непростительна?
- Ничего этого, на мой взгляд, нет. Фантастика — понятие чрезвычайно широкое. И наше время доказало это — опять же на мой взгляд! — вполне убедительно. Да, ни Веллер, ни Пелевин, ни Крусанов, ни Витковский, ни Галкина, ни, между прочим, Житинский сами себя писателями-фантастами не считают, но пишут-то они фантастику, причем отличную! Ибо фантастическим называется всякое произведение, которое в качестве сюжетообразующего приема содержит в себе элемент необычайного, маловероятного либо невозможного вовсе. И когда мне говорят, что "Из пушки на Луну" - фантастика, а "Превращение" Кафки — нет, я только плечами пожимаю.
"Полдень, XXI век"
- Недавно начал выходить журнал "Полдень, XXI век". Я знаю, что о таком журнале Вы с братом мечтали давно. Девизом журнала выбраны слова "Новый мир русской фантастики". Как Вы их понимаете?
- Во-первых, я понимаю их почти буквально — это должен быть мир таких произведений, которые обнимали бы ВСЮ фантастику в названном выше смысле. Там должно быть лучшее из реалистической, научной, философской, сатирической фантастики, из магического реализма, альтернативной истории, фэнтези... Весь спектр. А во-вторых, сами слова "Новый мир" - применительно к журналистике — сладко звучат для уха любого шестидесятника. Создать журнал хотя бы приближающийся — по авторитету своему, по прогрессивности, по демократическому, антитоталитарному заряду — к "Новому миру" 60-х — об этом можно только мечтать.
- В чем отличие нового журнала от уже много лет существующего журнала "Если"?
- Журнал "Если" уже на протяжении многих лет является лучшим и, в некотором смысле, образцовым отечественным журналом фантастики. Формально "Полдень" будет отличаться тем, что печатать мы намерены почти исключительно отечественную (не зарубежную) фантастическую прозу. По сути же, "Если" ориентирован прежде всего на читателя, предпочитающего фантастику. Мы же хотели бы ориентироваться на квалифицированного читателя вообще.
- Как Вы намерены сочетать высокий художественный уровень и новизну издаваемых текстов с соображениями коммерции, продаваемости журнала?
- Мы попытаемся это сделать. Рассчитываем на наших писателей. И, конечно, на наших читателей. Неужели же в 140-миллионной России не найдется десяти тысяч (платежеспособных) квалифицированных читателей, любящих и понимающих фантастику!
Своя компания
- Борис Натанович, что Вы делаете в ситуации нелегкого жизненного выбора — выжидаете, ищете компромисс, рубите сплеча?
- Выжидаю. Ищу компромисс. Иногда — рублю сплеча.
- Вас когда-нибудь задерживала милиция? Были ли у Вас неприятности с мелкими властями?
- Неоднократно. Но — по мелочам. ГАИ, главным образом. Или там всякие МРЭУ. "Почему выносите строительный мусор на помойку?!" А куда его, гада этакого, выносить?
- Вы любите ездить?
- Не понял. На автомобиле люблю. На своем. Вообще же — скорее, нет.
- Вы любите компании?
- Только свои, проверенные многолетним общением.
- С кем предпочитаете общаться — с умным, но неприятным человеком или с глупым добряком?
- Смотря на какую тему общаться. По делу — все равно. А по пустякам — лучше добряк.
- Курили ли Вы? Как Вы относитесь к мелким бытовым порокам?
- Курил как паровоз. В день инфаркта — перестал. До сих пор считаю, что лучший способ бросить курить — заполучить в свое распоряжение тяжелую болезнь, особенно смертельно-опасную. Все другие способы, по-моему, неэффективны. К прочим мелким порокам это тоже относится. Но в меньшей степени. А вообще, бывают ли пороки мелкими? Порок — это что-то обширное, значительное, в полдуши, не меньше.
- Насколько внимательно Вы относитесь к своему здоровью? Что предпочитаете есть?
- На эту тему я, как и всякий пожилой человек, готов говорить часами. Но не стану. Замечу только, что любимая моя еда — китайская. Аркадий Натанович в свое время приучил.
- Ваши дети и внуки, насколько Вы близки с ними?
- У меня пять внуков. От двух разных невесток. Дед я плохой, просто никуда не годный.
- Ваши близкие друзья? Из какого они мира? Молодости? Науки? Литературы?
- Мои ближайшие друзья — все — работали в Пулковской обсерватории. Хотя общих научных интересов у нас никогда не было.
- Ваша жена, если можно? Что Вы можете сказать?
- Вместе учились на матмехе. Вместе работали в Пулкове. Женаты 45 лет. Моя любимая и единственная женщина.
Александр ЖИТИНСКИЙ,
"Дело".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.