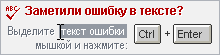Мешок пороха и жеребёнок
Память о войне у всех своя, даже у тех, кто — слава Богу! — не воевал. Она может быть связана с прочитанной книгой, с кино или же со школьной речёвкой, с линейкой, на которую нужны были белые гольфы — без них никак нельзя было поздравлять ветеранов. А у кого-то память связана с дедом, наливавшим себе сто грамм под бравурное радио и не желавшим встречаться ни с какими школьниками. Многие выжившие фронтовики до самой смерти не хотели и не могли рассказывать, как им воевалось.
 Моя память о войне начинается, может быть, с того дня, когда я катила на велосипеде по дорожке среди высоких длиннолистых лилий, в соседнем селе — целых семь километров от дома! — как вдруг среди листьев открылась каменная плита. "Товарищ, остановись! — прочла я на плите. — Здесь похоронены два неизвестных бойца и одна неизвестная медсестра, погибшие в бою…" Бои здесь шли страшные, но что я знала об этом? Кто их хоронил и почему они все были — неизвестные? Ведь у них, вроде бы, медальоны были…
Моя память о войне начинается, может быть, с того дня, когда я катила на велосипеде по дорожке среди высоких длиннолистых лилий, в соседнем селе — целых семь километров от дома! — как вдруг среди листьев открылась каменная плита. "Товарищ, остановись! — прочла я на плите. — Здесь похоронены два неизвестных бойца и одна неизвестная медсестра, погибшие в бою…" Бои здесь шли страшные, но что я знала об этом? Кто их хоронил и почему они все были — неизвестные? Ведь у них, вроде бы, медальоны были…
Под другим камнем лежала целая семья, убитая за то, что отец до войны занимал какой-то пост. Там были все имена, даты рождения и общая дата смерти. Я сосчитала — детям было 20 лет, 15, 9 и 5. Бабушка моя, как оказалось, помнила эту семью. Главу семьи повесили, жену и детей расстреляли. Кем был там отец — председателем сельсовета или кем-то партийным? Не всё ли равно? В любом случае должность не обеспечивала ему ни собственной яхты, ни виллы в Испании. Только больше работы и больше ответственности — при своих. А при фашистах — судьбу быть убитым вместе со всей семьёй.
Ещё убивали евреев. В ночи по булыжникам мимо нашего дома громыхал грузовик, бабушка считала, сколько раз тьма осветится фарами. Столько, значит, машин, до отказа забитых людьми, поехали в ближайший лес. На смерть. Возле леса большой овраг. В детстве мы собирали там землянику.
— Евреев убивали и зарывали там же, в овраге, — рассказывает мне моя тётя Соня.
— Так они и сейчас там?! — ахаю я.
— Что ты! — говорит тётя Соня. — Видела памятник возле клуба? Там братская могила. Партизаны, партийцы, евреи. Как освободили нашу Понорницу, так и перевезли всех туда… А раскапывать в овраге заставили тех предателей, кто выдавал их, кто работал на немцев. Потом уже отправили их в Сибирь…
Моих бабушку с дедом уже не расспросишь. Тёте Соне за девяносто. Она рассказывает, например: в нашей Понорнице заранее решено было организовать партизанский отряд. Назначены были специальные люди, а чтобы партизанам не голодать, сделаны были секретные запасы провианта. И вот, только немцы вошли в село, один из этих людей явился к ним и всех сдал — тётя Соня и фамилию его мне называла. Немцы забрали себе провиант, а группу арестовали.
— И вот там два парня совсем молодые были, — рассказывает моя тётя Соня. — Один ещё так себе, а один — красивый-красивый. Брови чёрные…
Для моих сельских родных тот не красив, у кого брови не чёрные.
— А глаза-то, глаза, — добавляет моя тётя Соня, — как угли, жгут. Волос кудрявый, чёрный. Ой, не могу, парень красивый был…
— Тётя Соня! — перебиваю я. — Вы не тяните! Убили его?
Тётя Соня досадливо машет рукой:
— Ты не перебивай! Я рассказываю тебе. Ведь надо же, выдал… — она называет фамилию. — И всех забрали, тут же за ними пришли. Так я говорю — там два парня были совсем молодых…
— И один из них — очень красивый! — продолжаю я. — А другой так себе. Обычная внешность. Так что с ними стало?
— Что стало? Выдал их всех… — снова сообщает мне тётя Соня. — Ведь надо же, только немцы вошли к нам в Понорницу — он пошёл и всех выдал…
И так — всё сначала. Рассказ стопорится каждый раз на том, что один из парней был необыкновенно красивый. Память на прошлое у тёти Сони крепкая, она только не помнит, что уже рассказала, что — нет. В конце концов, выясняется: два молодых парня спаслись-таки от фашистов. Скрылись в лесу. Один из них -тот чернобровый красавец. Он стал партизаном — отряд таки сформировался, хотя и почти полностью в другом составе. И провианта не было…
— Нашу Понорницу то спасло, что она не вплотную к лесу стоит, — говорит тётя Соня. — Партизаны заходили в те сёла, которые возле леса стояли. Не помочь партизанам было нельзя, а это означало верную смерть. Немцы никого не жалели, даже самых малых детей, если кто в родне помогал партизанам…
— А им все помогали? — спрашиваю.
— Ну да, — говорит моя тётя Соня. — Отказаться нельзя было — что скажут, сделаешь…
— А почему отказаться было нельзя?
— Как — почему? Они партизаны. Ведь наши. Если придут — ты всё для них сделаешь. А потом немцы придут. Обязательно кто-то доложит, из своих же, в селе. И немцы к тебе придут. Я говорю — нас только то спасло, что село не вплотную к лесу стояло, и партизаны больше в другие сёла ходили, где рядом лес…
У моего двоюродного брата своя память о войне. Я-то эту память и не храню, мне, маме троих детей, не пристало помнить о таких неприглядных страницах…
Мы с братом живём теперь в разных странах и видимся редко. Среди прочих "а помнишь?" он спрашивает счастливо:
— Помнишь, сестричка, как снаряды мы взрывали на кладбище?
 Снарядами земля была нашпигована. Мамин одноклассник, серьёзный вдумчивый мальчик, проводил какие-то опыты и потерял в результате ступню. Снарядов хватило и на моё поколение. Несколько раз бабушка в ужасе сообщала нам — то в одном, то в другом ближнем селе взорвался ребёнок. Детям же любопытно, они начинают разбирать найденные случайно железки… Бабушка брала с нас честное слово, что мы разбирать их не будем. Мы и не разбирали их — мы разводили костёр… Почему-то на кладбище, оно было заросшее, точно лес, там хорошо было прятаться.
Снарядами земля была нашпигована. Мамин одноклассник, серьёзный вдумчивый мальчик, проводил какие-то опыты и потерял в результате ступню. Снарядов хватило и на моё поколение. Несколько раз бабушка в ужасе сообщала нам — то в одном, то в другом ближнем селе взорвался ребёнок. Детям же любопытно, они начинают разбирать найденные случайно железки… Бабушка брала с нас честное слово, что мы разбирать их не будем. Мы и не разбирали их — мы разводили костёр… Почему-то на кладбище, оно было заросшее, точно лес, там хорошо было прятаться.
— Ты одна была девочка среди нас, и причём самая младшая…
Я мигаю брату — ведь здесь же, рядом, сидит мой старший сын! Ему не надо знать о моих безрассудных поступках.
Но уже поздно. Сын даже не сразу находит, что сказать мне.
— Мама… — наконец произносит он. — Мама, после всего этого — как ты можешь мне говорить… вообще что-нибудь?
Откуда в окрестностях было столько неразорвавшихся снарядов, чьи они были — кто бы сейчас знал? Вот о происхождении целых залежей пороха мой дедушка рассказал мне. Порох представлял собой маленькие — меньше сантиметра стороной — плоские квадратики кофейного цвета. Понятно, они хорошо горели.
Но жгли мы их мало. Ими набивали спичечные коробки — квадратики служили чем-то вроде разменной валюты, за них можно было выменять конфету или простую игрушку. Да и просто мы хвастались, у кого больше пороха. Больше всего было, кажется, у нас — его мы находили за сараем на грядках, под старой грушей. Бабушка нас гоняла, боясь, что потопчем грядки.
— Здесь было большое сражение? — спрашивала я у деда.
Оказалось, всё проще. После войны не хватало мануфактуры. Тканей, проще сказать. И на каком-то складе моим выдали мешок пороха. Порох они зарыли в саду. А из мешка сделали пододеяльник. А потом поросёнок разрыл яму и раскидал всюду порох — только-то и всего.
Помню, я попросила деда рассказать о войне. А он о ней никогда не говорил. И всё же он нашёл, что рассказать мне:
— Был у нас на войне жеребёнок, уж до того умный, как человек. Я подойду, обниму его… Всё казалось — он понимал меня. Я и рассказывал ему, как скучаю по дому. А он стоит, слушает. Люди-то нашего языка не понимали, а он, казалось мне, понимал. С ним только по-нашему и говорил…
Позже я стала думать: что это были за люди, не знавшие нашего языка? Вообще-то, дед воевал и в Венгрии, и Румынии. Но почему он был там один? Может, он попал к партизанам — и у них там был жеребёнок? Деда об этом расспросить уже было нельзя.
А после мне пришло в голову: может, элементарно все остальные говорили по-русски? Дед всю жизнь прожил в Украине. Украинских языков на самом деле несколько, у Западной и восточной Украины они свои. А в наших местах был такой специфический диалект — местные краеведы находили влияние не то хорватского, не то ещё какого-то языка. Понятно, что по-нашему, если не было земляков, дед мог говорить только с жеребёнком. Так он отводил душу. И с благодарностью к жеребёнку у деда была связана память о войне.
Сейчас там и здесь слышишь: за что они воевали? Знали бы они — что распадётся страна, что заводы и фабрики, да и сами недра окажутся собственностью кучки людей — а остальных государство поставит на грань нищеты… И что — если бы знали? Не стали бы бить фашистов?
Да не заглядывали наши фронтовики так далеко — на 65 лет вперёд! И воевали они не за то, что мы видим сейчас и даже — многие из них! — не за сталинское, современное им, государство. Воевали — чтобы скорее освободить землю от врага, не гнушавшегося убийством мирных людей, детей в том числе. Они воевали, чтобы не гибли люди. И они освободили землю от фашистской заразы. А всё остальное должны были делать уже следующие поколения. И то, что мы имеем сейчас — это уже не их — это наша проблема.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.